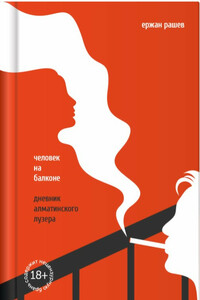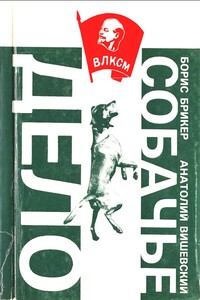Были тут какие-то особые моральные и волевые качества, независимые от политических взглядов? Или за взгляды эти уже было слишком дорого заплачено? Что же держало этих людей в стороне от жизни страны?
Еще вчера я на эту “жизнь страны” только бы хмыкнул: ловушка для простаков. А мы, умные гордые люди, живем по принципу “вы меня цените — и я вам служу, вы меня отвергаете — и я вас отвергаю”. Но теперь я с адской отчетливостью понимал, что не беспомощному и мимолетному презирать могучее и бессмертное. Мы, удалые красавцы, внезапно обнаружившие у себя на ахилловом сухожилии черную метку отверженца, отказались от служения бессмертному только потому, что за него нужно было платить унижениями. Но дружественное послание из ада открыло мне с полной ясностью: история — это созидание бессмертия, отказаться от участия в ней означает заведомо обречь себя на тлен и ничтожество. И я глушил тоску по историческому служению байроническими сарказмами, а брат — водкой и ухарством.
Самое простое и надежное — сохранить бы элементарное достоинство — для нас и оказалось самым коварным: достоинство мы сохранили, а бессмертие профукали.
Запомнились палатки в архангельском пересыльном пункте; удивляла бесконечно меняющаяся погода: то синее небо, то черные тучи и проливной дождь (в Киеве такого не бывает). Живо запомнился поход в баню: странные для нас деревянные тротуары и приятное чувство “прогулки” через город — в строю, под конвоем, но все очень культурно, без окриков и назиданий. Всматриваешься во встречных — что за люди такие особенные, что им позволяется свободно разгуливать? И думаешь, что и тебя рассматривают и, наверно, гадают: что-то не похожи на преступников…
Но что особенно запомнилось — газета “Правда” с двумя портретами на первой странице, Ежова и Ягоды: Ягода назначен наркомом связи, а Ежов — наркомом внутренних дел. Наконец-то разобрались, что творит это чудовище Ягода! Зачем тогда и ехать на Воркуту — государственные средства зря тратить! Тем более что навигация уже заканчивалась. Приятно было ходить среди палаток и ловить “параши”: скоро-де разберутся! Появились и первые сплетни. Активистка киевской швейной фабрики ушла на ночь к уголовникам. Ее коллеги, знавшие ее мужа, стали утром ее упрекать. Но женщина публично заявила, что так она лучше сохранится для мужа. Жизнь — это шире, чем заключение, хороший здесь выглядел еще лучше, плохой — еще хуже.
Запомнилась поздняя посадка на пароход. Мне досталась даже койка, другие оказались в трюме. Какое-то повышенное возбуждение было: все-таки увозят. Однако скоро и это улеглось. А при выходе из Белого моря началась страшная качка, считаные люди остались на ногах, почти всех рвало. Я лежал полумертвый. И несколько раз ко мне подходил мой новый знакомый Вася Дронов. Киевский инженер, сын днепропетровского рабочего, друга Петровского (пред. ВЦИК, депутат царской Думы!), он расхаживал по всему пароходу, совершенно не подверженный морской болезни. Посмеивался над нами и в шутку добавлял: там и конвой валяется укачанный, разоружить бы его и заставить капитана повернуть на Норвегию. Однако никому даже в шутку не хотелось слушать такое. Говорили, что заключенные с Соловков когда-то сбежали туда на плоту, — так то были заключенные, а мы… временно прогуливающиеся.
Какое счастье было увидеть рейд Нарьян-Мара! Солнечное утро, тихо, вдали деревянные домики небольшого городка. А тут еще подфартило купить бутылку рыбьего жира. Глаза укреплять. Благолепие! Вскоре нас перегрузили на баржу, а там в трюм — и устраивайся как можешь. Начинала усиливаться борьба за существование: каждый ищет место поудобнее, да еще с хорошим соседом. Я тоже не отставал, но скоро понял: что-то унизительное было в этом — вырывать место у товарища. Урки, строгие к чужим слабостям, называют это “дешевить”. “Пей до дна!” — сказал я себе. Не умрешь, наоборот — еще больше закалишься. И этому правилу я остался верен до последнего лагерного дня. И очень часто блаженствовал на сосновых ветках под нарами. Никто на тебя не в обиде, никто не толкает — кум королю и сват министру.
Папочка, так это же мы от тебя и усвоили — не дешевить, не пробиваться туда, куда тебя не пускают. И это же нас и сгубило. Ты отказался грызться за место на нарах — мы отказались грызться за место в вечности. Дьявол умеет вводить нас в обман устами тех, кому мы верим как Богу…
Теперь я был даже рад, что отца нет рядом, — он бы наверняка понял, что в какой-то миг я посчитал его орудием дьявола. Хватит с него своей беды. Я же помню, как уже ленинградским пенсионером он суетливо семенил к передней двери троллейбуса, чтобы занять свободное место… Похоже, он меньше боялся погибнуть, работая на бессмертие, чем проехать три остановки стоя, служа себе лишь самому. Исчезло “во имя” — растаяло и достоинство: я отворачивался, когда он бросался от одной двери к другой, где было на одного человека меньше, я опускал глаза, когда он через весь магазин кричал мне: “Становись в другую кассу!” Я думал, что это мелочность, а это была сломленность, это была отверженность…
На барже с нами вместе были и женщины, а с ними появились и ухаживания — и дневные и ночные, — а с этим и сплетни. Жизнь — так я понимаю теперь — всегда жизнь. Рассказов, легенд — море. Но все нейтральные, без политики. Проезжаем мимо небольших, домиков на пять-шесть, деревушек и спрашиваем один другого: “Предложили бы жить всю жизнь в такой деревушке, тогда освободим, — согласился бы?” И слышу неизменное: “Да”. И еще один коварный вопрос мы задавали друг другу: