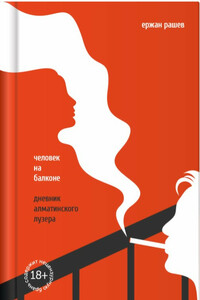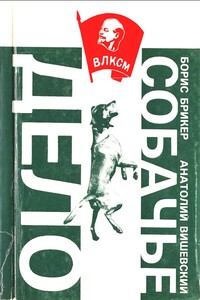Ксендз Кшесинский был несколько замкнутым человеком, но от разговоров не уклонялся. Он в камере исполнял все положенные молитвы, и никто никогда не подтрунивал над ним. Единственное, чем его донимали, — как он обходился без жены — эта тема всюду самая интересная. Он не обижался, а деликатно уклонялся от ответа. Сигизмунд Сигизмундович неплохо играл в шахматы. Играть запрещали, но мы из хлеба делали фигуры, на бумаге чертили доску и незаметно играли. При обысках фигурки прятали в пружины кроватей. Время от времени устраивали матчи, и мы с ним всегда выходили победителями. Потом начинался поединок между нами. При этом ставилось условие: если он выиграет, я кричу: “Бог есть, бог есть!”; если он проиграет, должен он кричать: “Бога нет, бога нет!”
Милый папочка, но почему же ты прежде не рассказывал, что когда-то предавался такой прелестной дурости? Ведь даже когда мы сделались вполне взрослыми, ты не просто избегал разговоров о самой приятной стороне нашей жизни — о женщинах, но даже скромное приближение к скоромному, казалось, причиняет тебе непритворное страдание. А упоминание о религии сразу подводило к кострам инквизиции и преследованию раскольников — уж больно пафосно. У нас же все полагалось обсуждать с юморком. Вот мы понемножку и перестали обсуждать с тобой и серьезное и приятное. И этим еще сильнее сгустили то одиночество, в котором ты доживал свои последние годы. Но я не решаюсь обвинить и нас: жизнь и без пафоса достаточно мрачна. Только зачем же ты прятал от нас самые обаятельные стороны своей натуры?..
Впервые я здесь столкнулся и с растратчиком, молодым инженером-строителем. Ни одного вечера без ресторана! А какие счета он оплачивал! Слушайте и завидуйте! Он не осмеливался сказать открыто, но получалось: хоть есть за что посидеть, не то что вам. На ресторанах он и попался, ему даже предъявили копии счетов. А где брал деньги? Тут таилась другая сторона его гордости. Он строил под Киевом танкодром. И пусть попробуют проверить, вложил он десять тонн цемента или восемь. Хоть ломай! “Накося — выкуси! — получалось у него. — И там, в лагерях, я тоже буду инженером, а вы будете вкалывать”. Нет, он к нам относился даже с некоторым уважением, но… “странные вы люди”.
Из этой камеры я скоро попал в пересыльную, где наконец увидел нары, — тоже ведь романтика. А то гнилые либералы ягодовского толка предоставляли нам отдельные кровати с матрацами и простынями. Большинство тут составляли рабочие швейных и обувных фабрик, бывшие местечковые портные и сапожники, активные участники революции и Гражданской войны в масштабе своего местечка. Потом они сделались пролетариями, вступили в партию и считали себя крупными политиками. Эта претенциозность, мне кажется, и привела большинство из них в оппозицию. И к “ученым” тут тоже относились с полным презрением:
— Как это можно наговаривать на себя?
Сами они с оппозицией порвали, и нечего тут выдумывать. Самое простое снова оказывалось самым надежным. Правда, рабочим и жизненные трудности более привычны и потому не так страшны.
На пересылке я узнал о столкновениях между уголовниками и каэрами (контрреволюционерами) — слово “политический” было запрещено. За день до моего прихода уголовники пытались ограбить каэров, но получили отпор. Отличился в драке польский шпион, здоровый парень, загнавший их в угол и основательно понадававший им. Отец его был рабочим в Варшаве. Сам он после гимназии поступил в школу разведчиков, и эта работа ему очень нравилась: “Весь мир посмотришь и не так уж рискуешь. Попадешься — выменяют”. У нас он работал токарем в МТС, и один из его агентов провалился и его выдал. В камере смертников он сидел с совработником, осужденным за растраты и прочие бытовые красоты, и в ожидании расстрела поляк кое-что о себе рассказал. И сокамерник донес на него, думая этим заработать помилование.
— Вообще, — говорил этот парень возмущенно, — ваши не соблюдают никакой этики. С нами должна бороться только контрразведка, и так везде, а у вас любой — разведчик, хоть и не его дело, а выдаст.
Потом его вызвали к наркому, и Балицкий обещал сохранить ему жизнь, если он раскроет всю сеть, но он отказался. Тогда тот стал его убеждать как сына рабочего. “А вы почему сажаете рабочих? — будто бы сказал он Балицкому. — Вон сколько понасадили после смерти Кирова”. В Польше он был на похоронах убитого польского министра, кажется Котса, и кто-то из рабочих сказал: “Вот бы почаще министров убивали, мы бы на похороны ходили и не работали”. Это услышал полицейский и толкнул болтуна: “Чего разговорился, смотри мне!”
— А у вас что бы за это было? — закончил он.
Несмотря на всю незаслуженную тяжесть нашего положения, никто его не поддержал, хотя парень и располагал к себе. О своей профессии он говорил как о самой обычной, только интересной.
Занимательной была эпиграфика в пересыльной. Писали кто чем мог: огрызками карандашей, кончиком сапожного гвоздя. Прежде всего, фамилии и адреса. Это не из тщеславного желания оставить по себе память: глядишь, прочитают знакомые, узнают, куда выслали, может, до родных дойдет. Но были и философские сентенции типа “От тюрьмы и от сумы не зарекайся” — мы и не зарекались. Вот явный пессимист: “Будь проклят тот отныне и до века, кто думает тюрьмой исправить человека!” Но с ним спорит оптимист: “Тот не человек, кто в тюрьме не сидел”. Браво! Именно мы — люди. И стараемся потешаться, глушить глубоко запрятанную тоску. И получается неплохо. Хоть и ни за что, хоть и от своей власти, но я должен быть таким, как ОНИ.