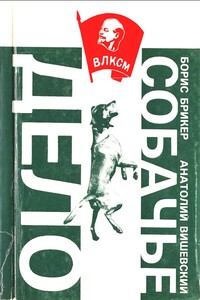Потекли снова однообразные дни. Но однажды, возвращаясь с прогулки, я увидел у дежурного газету в черной рамке (он тут же ее перевернул). “Все, кого-то убили, значит, начнутся массовые расстрелы, как после убийства Кирова”. С этой вестью я и пришел в камеру. Но особой паники это уже не вызвало, хотя все считали, что будет именно так. Усталость и упадок духа делали людей безразличными. Но вечером я прямо спросил Волчека: “Почему черная рамка в газете?”
— Умер Горький, — ответил он спокойно.
Вскоре меня снова перевели из тюрпода в одиночную и в “вóроне” возили на следствие. Иван Иванович приносил книги, а когда уставали глаза, я начинал разрабатывал маршруты по Крыму и Кавказу после освобождения: оставалось меньше двух месяцев до окончания следствия. Или воспроизводил в памяти дом за домом в родной Терлице, перебирал все, что помнил о домашних…
Во время очередного допроса всплыл новый свидетель обвинения — доцент Перлин, которого я совсем мало знал. Перлин читал историю русской литературы и считался “властителем дум”. Внешне интересный, он получил в НКВД прозвище Евгений Онегин. Что я с ним имел общего или он со мной? И еще умный, остроумный человек! Я сразу потребовал очную ставку. И вот кабинет следователя Грозного — длинный, узкий. Следователь за столом против окна, сбоку Перлин без своей вдохновенной шевелюры. Он сидел совершенно убитый, от былого блеска и признака не осталось.
Я сел напротив, невдалеке мой попечитель Волчек. Я не мог смотреть на Перлина, горько было видеть этого некогда гордого человека. И в глаза бросились уж больно тонкие колени Грозного. Как стрекоза, а еще… Грозный, видимо прочитал на моем лице иронию и с ходу стал кричать: “Не увильнешь, все тебе докажем!..” Я молчал, стараясь сохранить хладнокровие. И повторилась комедия с Лозовиком. Перлин сам не говорит, а только поддакивает: “Да, вовлек, поручал, а он меня информировал, что террористическая группа создана”.
— Может, у вас вопрос к Перлину?
О чем спрашивать, когда все сплошная ложь? Но что-то же надо. Вот и спрашиваю: когда, где? И получаю “точные” ответы. Не удержался и снова стал грубить, и снова меня посадили спиной к Перлину. Слышу всхлипывания, а меня злость разбирает: надо же такое выдумать!
— Пойдемте.
И Волчек повел меня в кабинет Брука. Началась тройная обработка. Кто увещевал, кто угрожал, но я уже успел взять себя в руки: “Выдумка, и не знаю для чего, дайте только до суда добраться”. (И подымется рука!..) Среди препирательств пришел Грозный.
— Перлин просит, чтобы вас оставили с ним один на один, заверяет, что тогда вы все подпишете. Согласны?
Я обрадовался. Лицом к лицу хоть выясню, зачем это все. Я пошел впереди, Грозный, Волчек — сзади. Рывком я отворил дверь, но тут же оба меня схватили за руки и потащили назад.
— Ага, подлец, — закричал Грозный, — хотел остаться с ним с глазу на глаз, чтобы задушить его и замести следы!
— Но вы же сами предложили мне такую встречу…
Ни разу за все время заключения я не был так обескуражен. Уж такая провокация!.. А Перлин! И еще более обидно за славных чекистов и за государство, которое они обманывают. Однако я верил, что государство еще так их тряхнет, что зазвенят значки на их гимнастерках. Но в 70-е годы я вновь просматривал газеты тех лет и еще больше убедился, что мне повезло 3/III-1936 г. Мне посчастливилось не участвовать в палачествах.
Папочка, неужели ты и в аду так считаешь? Что даже за участие в истории не стоит платить участием в палачествах? Что даже бессмертие не стоит слезинки Лозовика? Почему же ты молчишь?.. Батько, где ты, слышишь ли ты?!.
И он услышал. Раздался робкий стук в дверь.
“Входи, входи!” — крикнул я осипшим голосом, и дверь отворилась. На этот раз он явился в каком-то балахоне. “Кого ты зовешь?” — послышался испуганный голос жены, и тут же вспыхнул верхний свет. Она была все в той же синей ночной рубашке.
— Ты уже два часа что-то бормочешь… — На ее розовой полной щеке отпечаталась головка акулы: она любит подкладывать под голову декоративную подушечку с вышитыми рыбками. — Ты с кем разговаривал?
— С преисподней, — после долгой паузы ответил я. — Жаловался на свою незадавшуюся жизнь.
— Ну, поехал, — с облегчением махнула она полной рукой. — Сейчас заварю тебе пустырник.
Она хотела улизнуть, но я ее остановил:
— Подожди, ты что, серьезно считаешь, что мне не на что жаловаться?
— Конечно. — Она не желала принимать меня всерьез.
— Ладно, тогда не обо мне. Представь: в какой-то советской дыре одаренный пацан мечтает о великих свершениях. Ну там — о космосе, о борьбе с молниями и всяком таком. И вот он учится лучше всех, блистает во всем, и все эти космосы и грозы его ждут с распростертыми объятиями, его туда, можно сказать, завлекают. А потом какая-то канцелярская крыса говорит: нет, все троечники нам годятся, а Каценеленбогенов нам не надо, пускай этот умник занимается производством… Ну, скажем, авосек. Это трагедия или нет?
— Они больше потеряли, чем ты. Ты и больше их всех зарабатываешь, и квартира у тебя больше, и уважали тебя всегда больше всех. У тебя и дети получше многих… И лучшая в мире жена.