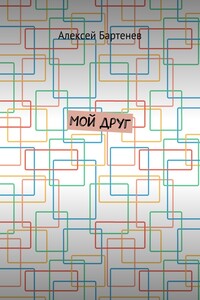кладет на стол кладет на стол и дальше
Не сумерки но сумки(хлопнет дверь)
ты вся в шитье и ты сама — шитье
материя болгарский крест рутина
под языком ты нежно держишь сына
и дочь за округлившейся щекой
он поднимает свет одной рукой
но сумерки но дверь но половина
* *
*
чтобы выстроить скрипку
нужно дерево прежде убить
ободрать словно липку
горячей пилой полюбить
до липкого сердца
итальянским дойти топором
чтобы скерцо
лала на убитом потом
чтобы ветви
над декой дрожали цвели
чтобы хлопали дети
в душистой пыли
чтобы крона
над смычком — чтобы черный капрал
соловей макароны
созвучий глотал запивал запевал:
я давно деревянную кожу оставлю: пойду голосить
в скрипках клубиться в клюве лала разносить
буду светом
тревожить окно и окно
и убитую скрипку
хоронить под хайвеем
завернув как умею в немое свое полотно
* *
*
их везли вагонами
трескучих молодых
годных для агонии
на полях других
где небо как огромный куст сирени
доводит до блаженства и мигрени
поле медом плавилось
в солнечной слюне
избранным старость
остальным не
молодость бессмертье сапоги
танечка контузия любви
так страна
детей
зачем
приказ
но — движенье света вдоль себя
размноженье летом детских глаз
крикнешь “гол!” — и кончилась война
* *
*
воздушные змеи родительских чувств
над кухней над берегом вскользь
и дети глядят — взгляд их густ
словарь — мавзолей стрекоз
эгоисты запутываются в ветвях
вывезенные на юг
небо полно торопящихся мам
легких квадратных подруг
дерево кажется стиркой белья
в разбрызгах воды-ветвей
воздушные змеи я и не я
и кто-то знакомый — с ней
* *
*
еще Второю мировою
был воздух оскоплен
еще погибшие листвою
не вырвались на свет
еще погибшие ветвями
не чиркнут по плечу
еще погибшие под нами
сосут нерусскими губами
бессмертья чупа-чупс
но в кукурузниках утроб
в заводах безвоздушных ямах
плоды салютов и метро
плывут в послевоенных мамах
их одноногие отцы
их однорукие отцы
рукой ласкают матерей
ногой пинают матерей
и говорят другой рукой
отсутствующей как язык:
мой сын плывет в воде другой
двурукий и двуногий сын
а нам залило медью рот
пространство склад готовых форм
пророй течение как крот
и добывай мозгами корм
но бебибумеров десант
с сознаньем детским цвета хаки
еще не сброшен на детсад
петь песни тужиться для каки
петь песни голосом вторым
петь песни голосом десятым
пока волхвы несут дары
сопящим в люльках страусятам
Найдин Владимир Львович родился в 1933 году в Москве. Врач, доктор медицинских наук, профессор. Печатался в журналах “Новый мир”, “Знамя”, “Октябрь”. Автор книг прозы “Один день и вся жизнь” (М., 2006), “Вечный двигатель” (М., 2007), “Реанимация” (М., 2008), “Интенсивная терапия” (2009). Живет в Москве.
АМЕРИКАНКА
Вот и грянула перестройка. Одни правители ушли, вернее, их потеснили, другие пришли, вернее, сами пролезли. Все перемешались. Получился малосъедобный винегрет. Без масла. Но это там, наверху. Будущие богачи и олигархи занялись малопонятными залоговыми аукционами. А внизу — публика заметалась в поисках пропитания. Наш сосед по дому, студент МАДИ (автодорожный институт), сообщал восторженно, что их профессор, заведующий кафедрой сопромата, торгует с машины картошкой, а завкафедрой гидравлики, энергичная дама, гоняет фуры в Болгарию за помидорами и болгарским перцем. Сама ведет головной трейлер. Помидоры продают на рынке сотрудники кафедры — доценты и старшие лаборанты. Младшие только подносят ящики. Надежный бизнес!
И пациенты у меня слегка переменились — появились шикарные нувориши. Кто торговал кабелем, кто мукой, кто не только торговал, но и пробовал силы в банковском деле. Один такой деятель — он к тому времени чуть ли не десять лет отсидел в тюрьме за мошенничество и спекуляцию — теперь расправил крылья, организовал банк, но чтобы не потерять квалификацию — приторговывал итальянскими туфлями, колумбийскими бракованными презервативами, японскими антирадарами и чешской бижутерией. Со мной пытался расплачиваться натурой. Называл “бартером”: “Вы мне, доктор, здоровье, а я вам машинку для нарезки колбасы. Или ветчины. Или индюшки”. Но я упорно стоял на привычном финансово-
денежном обеспечении. Причем никогда не называл цифру. Говорил: “На ваше усмотрение”. Это нуворишей путало, и они норовили не давать вообще ничего. Сплошь и рядом. Я это переносил легко, так как сам устанавливал правила игры. И, стыдясь пафоса, возвращался к постулату, что медицина должна быть бесплатной. Или, по крайней мере, не обременительной для пациента. Однако мне тоже надо кормить семью. И помогать растерявшимся старикам-родителям — их “надежные” сбережения обесценились в одну минуту. Было такое дело.
Но вот появились пациенты-иностранцы. Сначала наши эмигранты, те, кто побойчее, вспомнили прежнюю бесплатную медицину. Хлебнули “ихнюю”, хоть и льготную, но чужую. Да и с языком туговато. Как следует не пожалуешься, не поплачешь доктору-чужеземцу в жилетку. Три-четыре фразы, все понятно, на анализ, на рентген, ауф-видерзейн. Какая там жилетка! А тут можно долго размусоливать, вспоминать все новые и новые жалобы, вытаскивать на свет вообще позабытые болячки.
Получив квалифицированную помощь, они прославляли старую добрую медицину и делали нам рекламу не только среди оставшихся в России родичей, но и среди натуральных иностранцев, устремившихся нешироким, стойким ручейком в обновленную Россию. Загадочную восточную страну, где медведи выбегают на улицу, вместо кока-колы пьют фужерами квас и водку, играют на балалайках и ходят в толстых войлочных сапогах, называемых валенками.