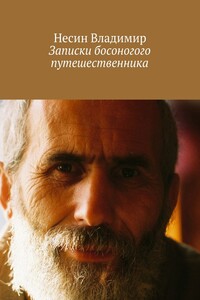— Куда ты? Куда прёшься? Чего не сидится тебе?
— Так… объяснил же... И… решено уже, Вить. Так нужно.
— Нужно…
— Да, Вить.
— Слушай, кто тебе мешает, если уж приспичило, хоть каждый год туда, на рыбалку…
— Вить, я ведь всё тебе объяснил.
— Не объяснил! Ни хрена ты мне не объяснил! Не пойму я твоего бегства. Если бы у тебя что-то серьёзное было на уме. А то ведь ребячество! Химера!
Борис тихонько крякнул, затылок потёр: ни к чему ему эти братские митинги. Ему бы сейчас встать и уйти, да неудобно. Не ожидал Боря, что придётся здесь, в аэропорту, неприятные разговоры разговаривать. Может, оттого и рванул так, не прощаясь — чтобы этого избежать…
Наверняка и про Диану не станет спрашивать. Он уже там. Уже бродит промеж валунов своих.
Сейчас, небось, ощетинится, затихнет.
Но Борис навалился локтем на стол, придвинулся поближе к Виктору:
— Лучше — знаешь, что? Давай на Новый год у родителей съедемся? А? Давай? Давно не были.
— Чего это ты вдруг?
— Я так и думал, что ты сейчас так скажешь.
— И что же? Вот я так сказал. Чего это ты вдруг?
— Почему — “вдруг”?
— Да так… Сам бежишь незнамо куда, а сам — “у родителей съедемся”…
В ответ Борис снова заулыбался, как в самом начале встречи — светло:
— Слушай… как же ты не поймёшь?
Виктор тишком, сдержав силу, шлёпнул ладонью по столу, вместо стука выбив из пластика визгливый скрип:
— Хватит! — и отвернулся раздражённо — и наткнулся взглядом на хвосты самолётов, настырно маячащие за стеклом.
Зажмурился. Подумал: “Скорей бы он ушёл”.
Приземистый родительский домик в Курске, в сонном переулке, укрытом тяжёлыми пригоршнями заснеженных еловых лап.
Как только высвободишься из голодных родительских объятий, в углу столовой, слева от телевизора, найдёшь взглядом ёлку. На ёлке допотопные, ещё советские, игрушки. С массивными металлическими прищепками. Когда игрушка бьётся, прищепка высовывает раздвоенный проволочный язычок. Упругий. Острый. Который больно колется, если хватаешь его неосторожно, спеша прибрать, пока не вошла мама…
На маме — белая кружевная кофта и праздничные серёжки с массивными рубинами.
Две принаряженные старушки в доме: ёлка и мама.
Отец встанет в сторонке, в молчаливой радости разглядывая гостей. Мама будет суетиться, метаться по комнате — распихивать сумки, предлагать всё сразу: разуться, сесть за стол, вымыть руки — послушать, как они с отцом с осени спорили-гадали, сумеют ли Боря с Витей выбраться в этом году. Скоро запыхается, подплывёт, растерянная, под бочок к отцу. Вдруг бросится к Любе, испугавшись, что до сих пор не успела и её как-нибудь приголубить.
Диана так и не побывала... собирались вчетвером в прошлом году, но сорвалось... в последний момент сорвалось...
Отец молодцевато хлопнет в ладоши: “Что ж, может, старый проводим?” С облегчением сядут за стол, к лоснящемуся холмику оливье,
к шампанскому, к льняным салфеткам с безглазыми петушками по краю, к осанистым, будто во фрак одетым, фужерам, которые от соприкосновения с вилкой поют чистейшими тенорами…
— Давайте за всё хорошее?
Сразу после президента и курантов потянутся долгие душные паузы, прошитые тихими, нестерпимо счастливыми взглядами родителей. Будут смотреть, запасать впрок, чтобы после отъезда сыновей, разложив в шкатулочки прилежной стариковской памяти то, что насобирали, обмениваться друг с дружкой то одним, то другим перлом: “А ты заметил? А ты обратила внимание?”.
Боря — ооо, Боря героически возьмёт на себя роль массовика-затейника: так или иначе, но растормошит застолье. Повеселит анекдотами из врачебной жизни.
А потом — отец или мама: “А ты, Витюш? Расскажи что-нибудь”.
Растеряется. Всегда — теряется, когда они просят: расскажи что-нибудь.
Припомнит одну-две истории — поначалу из настоящего, из свежего прошлого. Но мало, так мало в этих его историях — живого. Того, что стоит пересказывать за новогодним родительским столом. О чём? О поездках на работу — с работы в злых, ежеминутно огрызающихся сигналами пробках? О самой работе? В которую погружаешься каждое утро торопливо, как в спасительный бункер бомбоубежища. О том, что и у Любы точно такая жизнь — но отдельная, несовместимая с его жизнью… Несовместимая — потому что точно такая же. Потому что нечего совмещать…
Что ж, наверное, и он мог бы вспомнить о чём-то со смехом. Как Боря.
Но не получается.
Не хватает запала — посмеяться над рутиной, на улыбку скупой. Над империей мрачной сытости, которой он, как выяснилось, присягнул всерьёз.
Скажет:
— Да как-то нечего.
Они не будут настаивать.
Потом — непременно перейдут к историям про мальчиков Борю и Витю. Пара-тройка обязательных — про гуся, забежавшего в дом и сильно перепугавшего пятилетнего Витю, про сданный в металлолом фамильный самовар... И в какой-то момент защитная судорога ослабит хватку — и он напьётся. Само собой, до постыдной беготни на задний двор, до холодных примочек.
А если не напьётся — они сами, захмелев, тягучими вкрадчивыми голосами затянут про внуков: когда соберётесь, да скоро ли, да успеть бы понянчить…
— Борь, ты, наверное, иди, а?
— Пойду, Вить. Посадка моя уже началась. Пора. Ещё сумку из камеры хранения забрать…