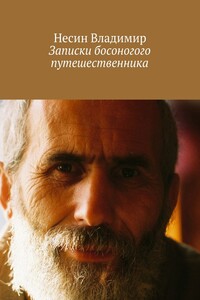водоворот. Пружинка стихии.
Закрыл кран. Уселся на краешек ванны.
Вот ведь Боря подкузьмил.
По работе, конечно, приходится летать. После того как всучили ему эту карту треклятую — летать приходится часто. Оно и ясно: скидка просто неприличная. “Ну что, Загоскин, смотаешься? По твоей-то карте — грех не летать”.
И киваешь, проглотив ледяной комок. И летишь.
Да, с картой вышло — нарочно не придумаешь.
Если бы летел в тот раз один, на работе никто бы и не узнал. Но рядом сидел Елизаров, начальник розницы. Всё шоу прошло у него на глазах. Когда стюардесса вышла в салон с волнистым попугайчиком, шёлковой лентой прикованным к её запястью, Елизаров — в третий раз, кажется, — набирал с мобильника управляющего, а Виктор, сопя от раздражения, решал, одёрнуть наконец Елизарова — мол, нельзя, запрещено в полёте — или снова промолчать. И тут стюардесса звонко — так, что попугай с перепугу пустил жидкого червячка на её рукав, — провозгласила розыгрыш:
— Наша авиакомпания... бла-бла-бла... дарит возможность... бла-бла-бла... до конца года летать за полцены. Сейчас мой пернатый помощник Гоша… — а Гоша косится на голосистую скептически, без всякого энтузиазма, — выберет счастливчика!
Сунула попке жменю тоненьких свитков — тот дёрнулся, ухватил клювом, вытащил один. Стюардесса развернула, и на бумажке красовалось “21 Б” — номер места, на котором сидел он, окаменевший счастливчик Виктор.
Елизаров завопил прямо в трубку: “Дмитрий Палыч, представляете! Загоскин только что карту выиграл! На скидку!”.
А попугай печально развёл крыльями — мол, я тебя понимаю…
Вроде совсем недавно было — карнавал буржуазной щедрости: “Берите-берите, что же вы, смелее!” Сейчас, когда он вместе с деньгами просовывает в окошко билетной кассы свою карту, кассирши недовольно кривят губы. Прикрыв трубку рукой, куда-то звонят — и снова кривят. Каждый раз у Виктора теплится надежда, что, повесив трубку, повеселевшая кассирша произнесёт долгожданные слова: “Извините, больше не действует”. И он перестанет быть обладателем неприличной скидки. Перестанет наконец мотаться по командировкам. Но каждый раз надежда оказывается тщетной: они всё же оформляют ему билет по специальной цене.
Так что радости лётной у него теперь с избытком.
Но то — работа. За неделю, бывает, готовишься. Перетрясёт всего, выпотрошит — созреет спасительная пустота в оглохшем организме. А тут... сорвал по тревоге…
Псих Борька! Псих запущенный!
Сначала эмигрировать задумал. Съездил в Италию к бывшему однокурснику, разузнал всё. Однокурсник лет пять как врачом в миланской клинике, обещал всё устроить. Боря собирался с присущей ему тотальной основательностью: вечера напролёт просиживал в чатах, накупил кучу нужных книг, зубрил итальянский. Уже было заговорил и читал почти без словаря. А потом вдруг передумал. Ничего толком не объяснил. На родине, видите ли, решил остаться. Не хочет, видите ли, чужое обживать.
Теперь-то что? Теперь-то куда тебя, шизика, понесло? Где тебе родина?!
Когда-то, в детстве, всё было наоборот: это он, Виктор, то и дело куда-то встревал, жизнь мерил шишками набитыми. То в телефонный колодец свалится, то один в чужой район на дискотеку попрётся.
А Борис — даром что младше на три года — всегда правильный был. Как разлинованный. Никуда не падал, не встревал. Само собой — отличник, пионер-всем-пример. Заглянешь в его шкаф, а там сорочки, собственноручно им отутюженные — по стойке “смирно”, дистанция в одну ладонь. Ополчение на смотре. Бррр! С улицы придёт — сразу обувь мыть. Всегда.
В любую погоду. Придёт — и прямиком в ванную, мыть.
Младшенького то и дело Виктору в пример ставили: “Учился бы вот у Бореньки. Вот кто в жизни-то не пропадёт”.
И впрямь казалось: всё в его судьбе расписано наперёд, по клеточкам разложено. Брат Борька, человек-таблица.
Сам от себя устал, что ли? От правильности чрезмерной. Стёрся о прямые углы.
Да ну его! Слетать — и забыть. Забыть и печатью заверить: забыто.
Виктор не хотел, чтобы Люба вставала его провожать. И не потому, что уже несколько дней живут, недовольные друг другом, захлопнутые и затаившиеся… Не поругались, нет. Простовдруг обиделись. У них с Любой случается. Внезапно, из-за мелочи какой-нибудь. Люба попросит покормить Рульку — а он забудет. “Ну что тебе, трудно? Она же голодная”. И — обида на неделю. Или он — обидится молча и носит. Вынашивает. Утренние затяжные сборы её бывают обидны. Все эти лаки, фены, “не пойму, лучше с поясом или без?”. Или за воскресным обедом она отпустит шпильку про его излишние килограммы. Вообще-то он и сам готов об этом пошутить, повздыхать насчёт растущего пуза — но в воскресенье, когда так хочется порадовать себя вкусным?!
В чём состояла причина размолвки в этот раз, Виктор не помнил. Помнил только: с утра был мрачен, а Люба, ничего не спрашивая, помрачнела в ответ. И потянулись глухонемые вечера…
Теперь вот встала, в дорогу собрать. Будто и не было ничего. Да и то сказать — ничего ведь и не было. Муть, невнятица.
Нет, не хотел, чтобы она его провожала. Даже тапки не стал искать, когда вставал, чтобы не шуметь.
При ней не сосредоточиться.