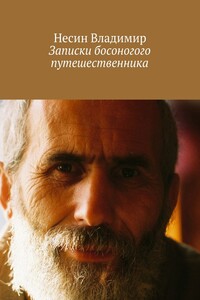Итак, пушкинские тезисы: Россия отделена от Западной Европы, ее история требует особой формулы; на своем историческом пути она прошла мимо феодализма, будучи страной аристократии; христианство есть ось европейской истории; в истории действуют не столько законы, сколько провидение и случай.
Пушкин предполагал совершить экскурс в русскую историю и, в противовес теории стадиальных закономерностей новейшей французской исторической школы (Гизо, Тьерри), показать, как аристократия противодействовала самодержавному правлению, забирала власть в России и определяла особенности ее исторического пути:
«Аристокрация стала могущественна. Иван Васильевич III держал ее в руках при себе. Иван IV казнил. В междуцарствие она возросла до высшей степени. Она была наследственная, отселе местничество, на которое до сих пор привыкли смотреть самым детским образом. Не Федор, но Языков, т. е. меньшое дворянство, уничтожило местничество и боярство, принимая сие слово не в смысле придворного чина, но в смысле аристокрации.
Феодализма у нас не было, и тем хуже» (XI, 127).
Последнюю фразу, до сих пор не истолкованную, приходится понимать в том смысле, что власть аристократии хуже феодализма как известной стадии социального развития («Феодализм частность. Аристократия общность» — XI, 126).
Всегда было принято считать Пушкина приверженцем аристократии. В определенном смысле это, безусловно, так: он горячо сожалел о падении древних аристократических родов в России («Мне жаль, что сих родов боярских / Бледнеет блеск и никнет дух» — «Езерский», 1832, V, 100), он гордился своим «шестисотлетним дворянством», он противопоставлял нравы «литературной аристократии» нравам торговой литературы — но все это касается культуры и традиции, кодекса личного и писательского поведения, а не государственного устройства. Внутренняя политика — иное дело, здесь Пушкин был так же тверд в оценке роли аристократии, как и в вопросе крепостного права:
«Аристокрация после его (Петра I. —И. С.) неоднократно замышляла ограничить самодержавие: к счастию, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. Памятниками неудачного борения Аристокрации с Деспотизмом остались только два указа Петра III-го о вольности дворян, указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться» (XI, 14 — 15).
Так писал двадцатидвухлетний Пушкин в своей первой исторической работе «Некоторые исторические замечания»9, и нить от этих «Замечаний» тянется к надсословной утопии «Капитанской дочки» — последнего пушкинского произведения на темы русской истории. Сословные перегородки и то, что впоследствии назовут «классовой борьбой», он всегда считал наибольшим социальным злом и источником революционных потрясений, а «твердое, мирное единодушие» сословий — залогом свободы и просвещения. Стоит оговориться, что еще большим злом, чем власть аристократии, была для позднего Пушкина демократия, которую он усматривал в современной ему Европе и Америке: во Франции «народ <...> властвует со всей отвратительной властию демокрации» («„История поэзии” С. П. Шевырева», XII, 66), в Американских Штатах «с изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках», «большинство, нагло притесняющее общество» («Джон Теннер», 1836, XII, 104). Легко себе представить, что сказал бы Пушкин, доживи он до «диктатуры пролетариата».
Для позднего Пушкина единственно возможной формой государственного устройства была монархия. Монарх должен обеспечить в стране прежде всего свободу и развитие просвещения — именно эти ценности составляли для Пушкина основу идеального государства. По этому пути шел, по его предварительным, не углубленным на тот момент представлениям, Петр I, который «не страшился народной Свободы, неминуемого следствия просвещения» («Некоторые исторические замечания», XI, 14), именно по этому пути он позже призывал идти Николая I, приводя в пример ему Петра: «Самодержавною рукой / Он смело сеял просвещенье, / Не презирал страны родной: / Он знал ее предназначенье» («Стансы», 1826, III, 40). Слова о «предназначенье» здесь важны для понимания различий между пушкинскими взглядами и будущим славянофильством с его неприятием петровских реформ и тоской по допетровской Руси: «Пушкин <...> ощущал