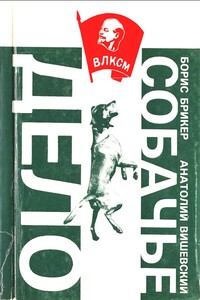— Кофе готов!
— О’кей! — Безмятежная улыбка нового континента была предъявлена, но все равно получилось фальшиво.
— Тебе нужна эта газета? — спросила.
— А ты ее выписываешь? — Он вроде как недоумевал, картинно, и лоб наморщил.
— Выписываю.
— Но она была правительственная, да?
— В некотором смысле…
— А сейчас?
— Газета, и все.
— Сейчас у вас много газет. — А глаз любопытствующий упер в эту бывшую правительственную.
— Хочешь, возьми!
— Нет! нет! — Он испугался даже, но продекламировал с чувством: — Глотатели пустот, читатели газет!..
— Наверное, — мелодекламация злила, — это когда в Париже…
— А в Москве?
— Я раньше вообще не читала газет.
— Раньше — да. — Он закивал с умилением, ресницами захлопал, он так бескорыстен был и несовременен в своих привязанностях. — Когда мы познакомились, у тебя не было газет. Только книги. А тут я включил телевизор, а там, как у нас! Ви-кто-ри-на! Глупые вопросы. Реклама. Раньше…
— Выключил бы.
— Мой друг выключил. Но я не о том. Вам это не идет.
— Почему? — спросила она. — Мы что, не люди?
— Ты не понимаешь.
Он был почти в отчаянии.
— Вы не должны быть, как все. Вы не можете быть такими. — Он искал слово, не нашел, сказал: — Вы другие, — и улыбнулся примиряюще. И взялся за ветчину.
И спросил вдруг серьезно:
— А где ты покупаешь мясо?
— Везде, — ответила.
А может, он пришел из дома, где хозяин — это муж женщины с запавшим ртом, которая когда-то забирала дефицитное лекарство? Яша оставил, но женщина и в квартирку ее не вошла, сказала, на улице грязь, а она, женщина, торопится к мужу, и теперь вспомнилось не только имя мужа, он был известен, и лицо того: черноволосое, круглое, усатое, а глазницы запавшие. У ней — рот такой, у него глазницы! Но разве это имело значение? Как определить, что разделяло: не внешность, нет! не достаток прошлый или нынешний, не талант, не доступ недоступному… Одни и те же фигуры, обладатели курносых и длинных носов, широкоскулые и узколицые были с обеих сторон. Одна и та же физиономия вызывала ненависть и нежность, понимание и раздражение — что видели в ней? что узнавали? какой такой смысл? Выключая звук в телевизоре, она просто вглядывалась в существа, шевелящие губами; некоторые здорово навострились, уразумели, как надо взирать в объектив. Это вам не фигурки с папирусов, чтобы личики в профиль, тулово в фас! Надо пялиться с экрана в душу, в сердце, в печень! Один из таких для демонстрации здоровья прыгнул за волейбольным мячом, и она отшатнулась от его заголившейся подмышки — в нос ударило сквозь индифферентный к запаху экран.
— Скажи, это можно смотреть? — Яша вытащил из кармана бумажку слепую, почти по складам прочел.
— Жуткое название — бр-бр-бр! Но смотреть можно все!
Он назвал режиссера, а она опять — затрещала: бр-бр!
— Ты невозможна! Клоун. Пьеро! Пьетрушка, за это я люблю тебя.
— Я не Петрушка! Ты не заметил? Я — Коломбина.
Она и в толк не могла взять, почему невозможна сегодня.
— Тогда, Коломбина, — он не обиделся, — пойдем со мной. У меня два билета.
— Я не хожу в этот театр.
— Почему? Ты же не видела.
Она пожала плечами:
— А зачем видеть?
— Ты знаешь заранее? Да? Тебе не нравится этот театр.
— Там не театр.
— А что?
— Может, вокзал. И все поезда в одну сторону.
— Это плохо?
— Это не для меня. И я хочу в другую!
Теперь он огорчился:
— Ты кричишь! Знаешь, вы здесь все очень-очень изменились. Особенно женщины. Женщины, они…
— Нетерпимые, — подсказала.
…Еще вчера, говоря с Яшей по телефону, она вдруг почувствовала присутствие кого-то чужого, а чужой-чужая и не скрывался: я не знала, что ты говоришь! Извини! — щелкнуло, и трубку параллельную положили, но голос остался…
— Решительные! — Это Яша ее поправил.
Они замолчали и, не сговариваясь, повернулись к окну.
Они оба смотрели в окно — на двор, где, исчеркивая асфальт цветными мелками, рисовали дети, а постарше прыгали через перекрещенные веревочки, попеременно и с места; мужчина в спортивном костюме выгуливал пуделька; женщина с третьего этажа что-то сердитое кричала мужчине или детям; парочка в шортах, он и она, провели двух догов; пуделек кинулся за ними, и туча, подсвеченная солнцем, стала наползать тенью на город — все было, как всегда, но все было для них другим и обозначалось разно: дети, собаки, горластая тетка, парочка, прошествовавшая мимо, сама туча. Все, что видел он, и все, что видела она, было непохожим. Его туча была не похожа на ее тучу. И дети были не те дети. И асфальт размалеванный. И звуки города. Само небо. Все! Она поняла это в те несколько секунд, когда они смотрели в окно, после того, как он уточнил — решительные.
И заторопился.
Она хотела напомнить, он должен куда-то позвонить, и не напомнила.
— Все хорошо! — Он улыбнулся светлой безмятежной улыбкой, но в голосе звучал вопрос: да?
— Да, о’кей. — Она опять стала эхом.
И сказала любимое:
— Ты — о’кей! Я — о’кей!
— Берн!
Он все знал, этот Яша.
Он ушел, и она не стала его провожать переулком, как всегда делала в давешние годы. Допила кофе, подумала: такое кино! И не вставала долго.
…Яша был совершенно ни при чем. Он явился к давней своей знакомой от своих приятелей. На его инфернальных крылышках играла пыльца того дома. Того, другого. По-прежнему трепетный мальчик, хотя с проплешиной, он даже имя свое Джек менял тут на русское — Яшша, для них всех менял, но, кажется, ничего не понимал. А она понимает?