Новые времена, новые заботы - [28]
Влачить всю жизнь этот ничтожный и маленький, но бьющий по ногам при каждом шаге груз своего благополучия или "своих" бед — что это за каторжная работа! Путаться в этих тонких нитях, чтобы связать себя ими по рукам и по ногам, чтобы замучиться в борьбе с этими ничтожными, но крепко связывающими путами, или разорвать их, бросить навсегда и идти свободным навстречу всему, на что отзовутся самые лучшие струны сердца, — эти две дороги, эти два рода предстоящей борьбы как нельзя яснее выступили передо мною среди занесенной снегом ухабистой дороги, по которой я возвращался домой, плотно закутавшись в воротник шубы. Вьюга была на дворе. Мерзлый снег тучами носился по белым полям и знобил ноги.
"Дай бог здоровья писарю!" — помимо моей воли сказалось во мне, так как, тоже помимо моей воли, вспомнились мне голые ноги Васютки.
А от Васюткиных ног мысль пошла опять перебирать все, что было прежде и что случилось теперь, и опять я благодарил и благодарил отца.
Нестерпимую какую-то духоту, даже тесноту ошущал я в течение тех дней, которые пришлось пробыть мне дома до отъезда в город после праздников. Я не говорил о том, что видел отца, потому главным образом, что, кроме глубокой обиды, я ничего бы не сделал всем обитателям нашего дома, начиная с матери и кончая последней приживалкой, если бы объявил, что теперь у меня на душе. Но зато тем тяжелее было мне самому; с каждым днем для меня делались все невыносимее и невыносимее эти тоскующие речи нашего дома, это кропотливое подбирание одно к одному ничтожнейших собственных несчастий, доходившее иной раз до высочайшей степени мелочности… "Второй день, голубчик мой, — говорила, например, с глубокой тоской пожилая тетка моей матери, — второй день ем без всякого аппетита!" И все, слышавшие об этом горе, вздыхали и если не сочувствовали, то уж непременно охали и принимались высчитывать собственные свои несчастия, еще более ничтожные… "Хоть бы раз, — думалось мне, — хоть бы на минуту кто-нибудь из них подумал о чем-нибудь другом, перестал рыться в собственном желудке и поглядел или подумал о несчастиях чужого человека, да не только об несчастиях, а хоть бы вообще-то о чем-нибудь, кроме себя". Колорит уныния и грусти лежал на всех обитателях нашего дома, благодаря, конечно, несчастиям матери. От нее все зависели, и все вторили ей, и хотя я очень хорошо знал, что она действительно страдает, хотя я и жалел ее, но не мог не видеть, что всякое слово мое о бесплодности ропота на всех и вся, ропота, не дающего утешения и совершенно несправедливого ввиду бездны бездн еще более сильных страданий, чем наши, — всякое такое слово может только рассердить ее, сделать хуже, злей и, стало быть, кроме страданий, ей же ничего не принесет. Тяжело было мне молчать, но говорить я не мог. Я уже видел перед собою какую-то другую дорогу; чуял, что рано ли, поздно ли и я и мать расстанемся непонятыми друг другом, с камнем на сердце — но расстанемся…
С таким-то камнем на сердце и уехал я в город, в гимназию. Не буду рассказывать второго свидания с отцом — оно было долгое и положительно уже деловое; раз попав в новый для меня мир, кричащий самому поверхностному наблюдателю о своих нуждах, я во второе посещение отца уже не только слушал, а сам расспрашивал его и узнавал вещи, которые у всех перед глазами и на которые всякий смотрит и, однако, никто не видит… В этот раз я уж забегал вперед желаниям отца и всех окружающих; если отец просил десять азбучек, то мне тотчас представлялись сотни домов, где живут сотни детей, которым надобны, стало быть, не десятки, а сотни азбучек… "Надо-то надо, да где ж взять? — говорил отец. — Эдак, пожалуй, если все то, что нужно, давать, — так и без рубахи пойдешь!" Отец, как видите, не отвык ценить свою рубаху; повторяю, в нем не было ничего необыкновенного. Но на меня эта фраза производила иное впечатление. Мне виделось, что снятие своей собственной рубахи — прямой вывод из слышанного и виденного мною. "Как же мать?" — с ужасом думал я… И, каюсь, отгонял эту мысль: мне было жаль мать, я любил ее…
В гимназию я возвратился совсем другим человеком. Любовь к матери, двигавшая меня до сих пор, заставлявшая меня прокладывать себе дорогу между людьми, с тем чтобы потом отмстить этим людям, была отравлена, пожалуй даже разрублена тяжелым ударом чужих несчастий, внезапно, неожиданно вторгнувшихся в мое понимание, — несчастий, с которыми меня связывал отец, человек, так ли, сяк ли живший в среде людей, обуреваемых этими бедами, по мере сил старавшийся искупить помощью и пособием этим людям все бесконечные вины своего прошлого, все преступления своей прошлой жадности, как говорил он. Между этими двумя привязанностями, к матери и к отцу, которые с каждым днем стали поглощать меня все сильнее и сильнее, с каждым днем становилось все меньше и меньше места для мысли о чем-нибудь, не касавшемся того или другого. Учителя были удивлены, увидав, что я совсем перестал учиться; и действительно, наука гимназическая вдруг потеряла для меня всякое значение и смысл. Зачем, в самом деле, писать мне сочинение на тему хотя бы о пользе химии? Матери я этим не помогу, потому что ее беда — в пожирающем ее эгоизме; не помогу и нуждам отца и его новых друзей, потому что там прямо нужны сапоги, потому что там Мишутка не ходит в школу оттого, что он — босой, а на дворе — мороз и снег. В этих смыслах оказалась малополезною, как выражался наш законоучитель, и география и всякая другая наука… Сторонились они и расступались в разные стороны пред выраставшею во мне потребностию идти заступаться, жертвовать, радовать, чтобы радоваться самому, — потребностью, пробужденной примером отца и постоянно им же поддерживаемой. Да и дальнейшим развитием во мне не только потребности, а прямо необходимости жить для "чужих" я тоже обязан отцу. Не проходило недели, чтобы ко мне на гимназическую квартиру не являлись от него посланные. То являлись за бумагой, за перьями, то просили написать письмо, а потом прямо пошли обращаться с делами, с тяжбами, как к какому-нибудь адвокату. У меня с каждым днем прибывало таких, нисколько меня лично не касавшихся дел, и с каждым днем я более и более входил в самую суть условий русской жизни потому, что в то время, когда мои товарищи — впоследствии сделавшиеся адвокатами или хорошими железнодорожными деятелями — продолжали заниматься гимназическими науками, я разыскивал какое-нибудь пропащее дело о земле, толковал с чиновниками, подавая прошения, — словом, уже вступил на так называемое поприще жизни. Я не мог отказать ни в одной просьбе, я не мог сказать: "поди спроси там-то", потому что знал, что "там" не ответят, что "там" запутают только… Если бы я даже просто из одного приличия исполнил все эти получаемые мною через отца поручения, то и тогда мне предстояло увидеть бездну таких вещей, которых бы не разрешила ни одна из бесчисленных гимназических наук. Но я делал не из приличия: во мне говорил молодой задор, превращавшийся понемногу в задачу всей жизни, — задор, дававший возможность чувствовать глубже, сильнее, служа другим.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
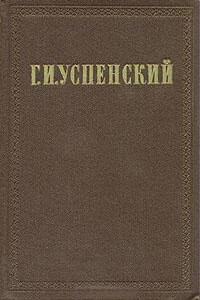
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

«Это просто рассказ… о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Тут больше всего и святей всего Венера Милосская… с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, мать, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни — вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее… это действительно такое лекарство, особенно лицо, от всего гадкого, что есть на душе… В ней, в этом существе, — только одно человеческое в высшем значении этого слова!» (Глеб Успенский)
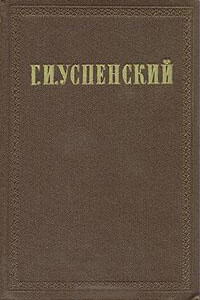
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая».
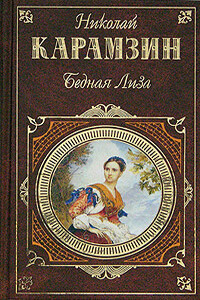
Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – писатель, историк и просветитель, создатель одного из наиболее значительных трудов в российской историографии – «История государства Российского» основоположник русского сентиментализма.В книгу вошли повести «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена».

Воспоминания написаны вскоре после кончины поэта Максимилиана Александровича Волошина (1877—1932), с которым Цветаева была знакома и дружна с конца 1910 года.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.