Новеллы - [166]
II
Я должен был позволить себе еще одно испытание, пусть даже робко и осторожно, испытание, возможно, более «справедливое». Смерть, как известно, несправедлива. Та, что зависела от меня (если она от меня зависела), должна быть справедливой.
Я знал одну милую девочку, которая все играла да играла в куклы, а сонные грезы ее сменяли одна другую, непохожие друг на друга, потому что одна уносила ее в горную деревушку, другая — на морской берег, а оттуда — в далекую–предалекую страну, где жили незнакомые люди и говорили на незнакомом языке; однажды сонным грезам пришел конец, и она очнулась, все еще девочкой, только двадцатилетней, но совсем, совсем девочкой, а рядом с ней оказался тот, кто явился ей в последней грезе и внезапно наяву обратился в огромного чужого мужлана, двухметрового верзилу, тупого, ленивого и порочного; а на руках у нее, вместо куклы, лежало несчастное создание, которое и уродцем–то нельзя было назвать, потому что болезненное личико его было поистине ангельским в те редкие минуты, когда его не искажали до чудовищного безобразия непрерывные судороги, сводившие все его тело. «Болезнь такого–то», не помню имени иностранного врача, не то англичанина, не то американца, как будто Потта, если я правильно пишу (силы небесные, назвать болезнь своим именем!), «болезнь Потта», в самой тяжкой и неизлечимой форме. Этот малыш не мог ни говорить, ни ходить, даже ручки его, исхудавшие и исковерканные страшными судорогами, отказывались служить ему. Но он мог так протянуть еще много лет. Ему было только три года. Он вполне мог дожить и до десяти. И вот, как ни трудно поверить, стоило ему оказаться на руках у человека, умело державшего его, например, у этого верзилы отца, несчастный малыш на мгновение успокаивался и улыбался такой блаженной улыбкой, озарявшей его ангельское личико, что все окружающие забывали о судорогах, только что наводивших на них ужас, и слезы нежного сострадания выступали у них на глазах. Казалось невероятным, что врачи не понимают, какую просьбу выражает улыбка малыша. А может быть, они и понимали, ведь сказал же как–то один из них, что нипочем не стал бы колебаться, будь на то разрешение закона и согласие родителей. Закон есть закон, он может быть жестоким и нередко бывает им, а на жалость он не имеет права, не то он уже не будет законом.
Итак, я пришел к этой матери.
Комната, где она приняла меня, была полутемной, и только в глубине ее сквозь занавешенные два окна проступал бледный сумеречный свет. Мать сидела в кресле возле кроватки и держала на руках ребенка, бившегося в судорогах. Я наклонился над ним, не говоря ни слова, держа пальцы возле губ. Когда я дунул, малыш Улыбнулся и испустил дух. Мать, привыкшая к напряженности и корчам крохотного тельца, почувствовала, что оно внезапно обмякло и утихло у нее на руках, и, едва сдержав крик, подняла голову, взглянула на меня, потом на него:
— Боже мой, что ты с ним сделал?
— Ничего, ты же видела, только дунул...
— Но он умер!
— Теперь ему хорошо!
Я взял ребенка у нее из рук и положил его, спокойного, тихого, на кроватку, ангельская улыбка еще играла на его бледных губках.
— Где твой муж? Там? Я избавлю тебя от него тоже. Больше ему незачем мучить тебя. А ты продолжай по–прежнему грезить, девочка. Видишь, что случается, когда очнешься от грез?
Мужа далеко искать не пришлось. Он уже стоял на пороге, остолбеневший великан. Но я, охваченный ликованием, после того как обрел наконец эту страшную уверенность, чувствовал себя огромным, возвышался над ним.
— Что такое жизнь? Смотри, только дунешь вот так — и нет ее! — Я дунул ему в лицо и вышел из этого дома, став гигантом за один вечер.
Это я, это я; смерть — это я; вот она здесь, у меня, в двух пальцах и дуновении; теперь я мог покончить со всеми. Разве не должен я теперь убить всех, чтобы быть справедливым к тем, кто первыми умерли из–за меня? Мне ведь ничего не нужно, лишь хватило бы дыхания. Я это сделаю не из ненависти: я ведь никого не знаю. Как не знает смерть. Дуновение — и конец. Сколько их было, унесенных ее дыханием, живших до тех, кто теперь, как тени, идут мимо меня? Но могу ли я уничтожить все человечество? Чтобы обезлюдели все дома? Все улицы всех городов? И поля, и горы, и моря? Чтобы обезлюдела вся земля? Нет, это невозможно. Тогда вообще не надо, никого больше не надо трогать, никого. Может быть, отрубить эти два пальца? Но как знать, вдруг достаточно только дыхания? Попробовать? Нет, нет. Хватит! При одной мысли об этом я задрожал от ужаса с ног до головы. Вдруг достаточно одного дуновения? Как помешать этому? Как побороть соблазн? Зажать рот рукой? Но разве можно всегда ходить, зажав рот рукой?
В таких бредовых размышлениях я оказался у ворот больницы, распахнутых настежь. Дежурные санитары «Скорой помощи» болтали в подворотне с двумя полицейскими и стариком привратником, а на пороге, в длинном медицинском халате, уперев руки в бока, стоял и глядел на улицу тот самый молодой врач, с которым я повстречался у смертного одра бедняги Бернабо. Когда я проходил мимо, он узнал меня и рассмеялся, быть может, оттого, что я, как в бреду, размахивал руками. Этого я не мог снести! Я остановился, крикнул ему:

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.

«Кто-то, никто, сто тысяч» (1925–1926) — философский роман Луиджи Пиранделло.«Вы знаете себя только такой, какой вы бываете, когда «принимаете вид». Статуей, не живой женщиной. Когда человек живет, он живет, не видя себя. Узнать себя — это умереть. Вы столько смотритесь в это зеркальце, и вообще во все зеркала, оттого что не живете. Вы не умеете, не способны жить, а может быть, просто не хотите. Вам слишком хочется знать, какая вы, и потому вы не живете! А стоит чувству себя увидеть, как оно застывает. Нельзя жить перед зеркалом.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.
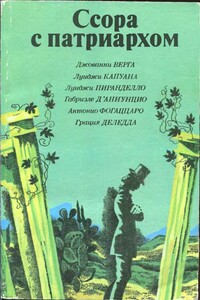
Сборник «Ссора с патриархом» включает произведения классиков итальянской литературы конца XIX — начала XX века: Дж. Верги, Л. Пиранделло, Л. Капуаны, Г. Д’Аннунцио, А. Фогаццаро и Г. Деледды. В них авторы показывают противоестественность религиозных запретов и фанатизм верующих, что порой приводит человеческие отношения к драматическим конфликтам или трагическому концу.Составитель Инна Павловна Володина.
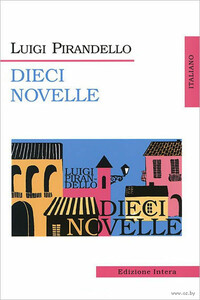
Новелла крупнейшего итальянского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1934 года Луиджи Пиранделло (1867 - 1936). Перевод Ольги Боочи.

Крупнейший итальянский драматург и прозаик Луиджи Пиранделло был удостоен Нобелевской премии по литературе «За творческую смелость и изобретательность в возрождении драматургического и сценического искусства». В творческом наследии автора значительное место занимают новеллы, поражающие тонким знанием человеческой души и наблюдательностью.
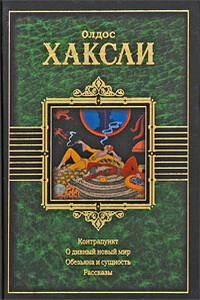
Старого художника, которого считали мёртвым, «открыли» вновь. Для него организуется почетный банкет. Рассказ вошел в сборник «Тревоги смертных. Пять рассказов» («Mortal Coils: Five Stories») (1922).

«Зачем некоторые люди ропщут и жалуются на свою судьбу? Даже у гвоздей – и у тех счастье разное: на одном гвозде висит портрет генерала, а на другом – оборванный картуз… или обладатель оного…».
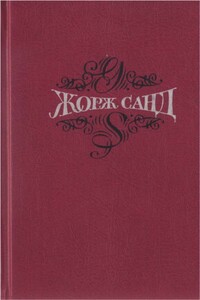
«Мопра» — своеобразное переплетение черт исторического романа и романа воспитания, психологического романа и романа приключенческого. На историческом материале ставятся острейшие общественно-политические и нравственные проблемы. Один из главных мотивов романа «Ускок» — полемика с восточными поэмами Байрона, попытка снять покров привлекательности и обаяния с порока, развенчать байронического героя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.