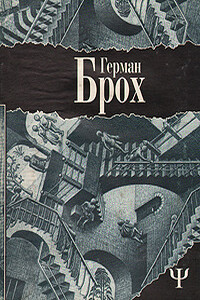Новеллы - [49]
И радостным было утро, смеющимся, почти весенним — свет, настолько тих был воздух, он словно парил, словно превратился в парящую прозрачность, удивительно спокойный и успокаивающий, омывающий, как стеклянно-светлые прозрачные волны прибоя, как развевающееся прозрачное покрывало. Рано утром я пришел в детский корпус просто для того, чтобы удостовериться, что здесь тоже произошел решающий перелом, настолько я был в нем уверен. И действительно: девочка пришла в себя, улыбалась, и, как мне показалось, глаза у нее были счастливые.
— Где доктор Барбара? — спросил я у санитарки.
— Она сегодня свободна, господин доктор.
— Все же позвоните ей, если, конечно, она не спит… она обрадуется.
Через некоторое время она пришла. Серьезная, деловитая, в белом халате, брови нахмурены, она шла вдоль кроватей, провожаемая полными надежды глазами детей, и, подойдя ко мне, сухо поздоровалась.
— Когда она пришла в себя?
— Сегодня ночью, доктор, — вместо меня ответила ей сестра.
Она внимательно осмотрела девочку, прослушала сердце, дыхание, но в ее лице сохранялось что-то настороженное.
— Ну что же, — сказала она наконец, — будем надеяться, что опасность миновала.
— Конечно, миновала, — вставил я и почему-то добавил: — Я очень счастлив.
Она не обратила на эго внимания и сказала тихо и озабоченно:
— Если эго только не передышка.
Ее озабоченность так тронула меня, что я ощутил опасность, угрожающую не только судьбе ребенка, по и моей собственной: я чувствовал, как надвигается что-то зловещее, словно в воздухе снова повеяло оцепеневшим и цепенящим, словно снова надвинулся угрожающий мертвенный ночной мир, окутанный темнотой души и в темноту души погружающийся.
— Нет, — воскликнул я, — нет… теперь все будет хорошо!
— Тем не менее, прикладывайте лед, сестра, — приказала она, — а если заметите хоть малейшее изменение, позовите меня.
И она ушла. Когда я возвращался в лабораторию, небо было безоблачным, однако мне показалось, что погода начинает портиться, по-видимому, приближался фён. День отяжелел.
После обеда она все-таки позвонила мне, я уже и не ждал. Да, я могу к ней прийти. Я все бросил, спеша, как влюбленный гимназист, и через несколько минут примчался к ней.
— Прости, — сказала она.
— Боже мой, что же мне прощать?! — удивленно спросил я.
— Тебе будет нелегко со мной, дорогой… мне и самой трудно.
Я обнял ее и положил ее руки себе на затылок.
Это было в четверг. И в самом деле задул затяжной фён. В субботу у девочки обнаружились симптомы паралича, и в ночь с воскресенья на понедельник она умерла. Диагноз кровоизлияния оказался верным.
Она приняла известие молча. Мое потрясение обнаруживало себя заметнее, потому что было иного рода: оно было более внешним — я, правда, мог не упрекать себя за ошибочный диагноз — ведь нельзя же при каждом сотрясении мозга делать трепанацию или пункцию! — но объективное так мало значит в человеческих отношениях, и она должна была бы, по совести говоря, смотреть на меня как на того, кто, необдуманно, даже легкомысленно злоупотребляя собственным авторитетом, сопротивлялся ее подозрениям; если бы она после этого отвернулась от меня, я бы какой-то частью своего существа признал ее правоту, и я был тронут тем, что она этого не сделала. Она избегала любого упоминания о происшедшем, она была тиха, выполняла свои служебные обязанности с еще большим рвением, чем прежде, и, казалось, осталась такой же беззаветно мне преданной, и я, занятый исключительно планами нашего будущего, вскоре начал надеяться, что ее работа, а еще больше моя любовь помогут ей пережить случившееся. А когда она недели через три после этого взяла меня за руку и сказала обыкновенным тоном, спокойно улыбаясь, что, как ей кажется, она ждет ребенка, это было полным исполнением надежд, совершенным утешением, и хотя я в тот момент, прижимая ее к себе, не думал ни о чем, я все-таки очень многое знал, я знал, что вся действительность мира погружена в человеческое сердце и покоится в нем, погружен сам мир, я знал о вечности в земных пределах, я знал о времени, которое протекает сквозь нас, протекает все целиком от предка самых начал до потомка последних концов и поет на своем бессловесном языке, и я знал о безусловности бытия нашего «мы», в центре которого была любимая женщина и ее ребенок. Я прижимал ее к себе и вновь говорил о планах на будущее и их осуществлении; она смотрела на меня серыми глазами из-под сведенных бровей, это был взгляд, полный доверия и доброты, и она улыбалась. Ни тогда, ни после я не сумел понять, что это был взгляд человека, строящего воздушные замки и не способного верить в них, хотя ее поведение не изменилось; если я говорил о женитьбе, о том, чтобы оставить больничную практику, о переселении в деревню, ее задумчивое лицо освещалось щемящей улыбкой, и она говорила: «У нас есть время, любимый… потом», но, кроме этого, ничего, собственно, не происходило. Зато удвоилась интенсивность ее работы; наряду со своей обычной службой она начала серологические исследования у меня в лаборатории, кроме того она с новой энергией обратилась к политике, каждый свободный вечер была занята где-то, и я не замечал, что ее толкала ко всему этому попытка забыться: напротив, я внутренне одобрял работу в лаборатории, я с радостью думал, что она хочет свои занятия приблизить к моим, точно так же я участвовал и в ее совсем далеких от меня политических делах, и был счастлив оттого, что она, не таясь, рассказывала мне о них, счастлив от ее удач, счастлив от успехов в создании коммунистических ячеек, которые она организовывала в больнице и где-то еще, и при всей неженственности такого пропагандистского поведения в ней не было ничего, что бы казалось мне неженственным, и я был пленником ее захватывающей убежденности. Я не замечал, что, несмотря на ту меру участия, с которой я следовал за ней, у меня, в сущности, не было к пей доступа, что ребенок, за которого она тревожилась и которого она ждала от меня, все больше отступал на задний план и что тем самым наши отношения переместились в совершенно иную плоскость. Один только раз я был изумлен, когда она — наклонившись над лабораторным столом с пробиркой в руке — обронила почти равнодушным тоном и как бы невзначай: «Ради нашего ребенка должен был умереть другой». Я, однако, сделал вид, что ничего не слышал; это скоро забылось.
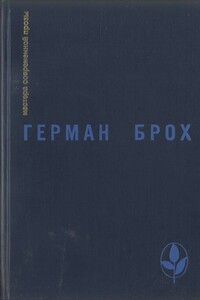
Г. Брох — выдающийся австрийский прозаик XX века, замечательный художник, мастер слова. В настоящий том входят самый значительный, программный роман писателя «Смерть Вергилия» и роман в новеллах «Невиновные», направленный против тупого тевтонства и нацизма.
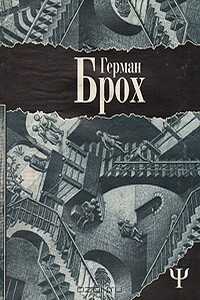
Роман "Лунатики" известного писателя-мыслителя Г. Броха (1886–1951), произведение, занявшее выдающееся место в литературе XX века.Два первых романа трилогии, вошедшие в первый том, — это два этапа новейшего безвременья, две стадии распада духовных ценностей общества.В оформлении издания использованы фрагменты работ Мориса Эшера.
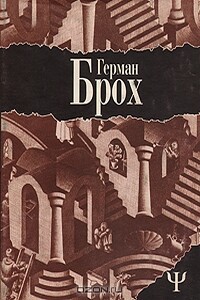
В центре заключительного романа "1918 — Хугюнау, или Деловитость" — грандиозный процесс освобождения разума с одновременным прорывом иррациональности мира.В оформлении издания использованы фрагменты работ Мориса Эшера.

Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) — один из самых проницательных писателей в английской литературе XX века. Его называют «английским Мопассаном». Ведущая тема произведений Моэма — столкновение незаурядной творческой личности с обществом.Новелла «Сумка с книгами» была отклонена журналом «Космополитен» по причине «безнравственной» темы и впервые опубликована в составе одноименного сборника (1932).Собрание сочинений в девяти томах. Том 9. Издательство «Терра-Книжный клуб». Москва. 2001.Перевод с английского Н. Куняевой.

Они встретили этого мужчину, адвоката из Скенектеди, собирателя — так он сам себя называл — на корабле посреди Атлантики. За обедом он болтал без умолку, рассказывая, как, побывав в Париже, Риме, Лондоне и Москве, он привозил домой десятки тысяч редких томов, которые ему позволяла приобрести его адвокатская практика. Он без остановки рассказывал о том, как набил книгами все поместье. Он продолжал описывать, в какую кожу переплетены многие из его книг, расхваливать качество переплетов, бумаги и гарнитуры.
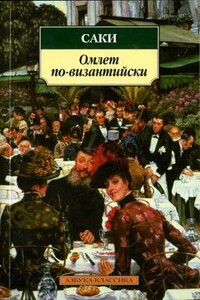
Вниманию читателей предлагается сборник рассказов английского писателя Гектора Хью Манро (1870), более известного под псевдонимом Саки (который на фарси означает «виночерпий», «кравчий» и, по-видимому, заимствован из поэзии Омара Хайяма). Эдвардианская Англия, в которой выпало жить автору, предстает на страницах его прозы в оболочке неуловимо тонкого юмора, то и дело приоткрывающего гротескные, абсурдные, порой даже мистические стороны внешне обыденного и благополучного бытия. Родившийся в Бирме и погибший во время Первой мировой войны во Франции, писатель испытывал особую любовь к России, в которой прожил около трех лет и которая стала местом действия многих его произведений.

Одноклассники поклялись встретиться спустя 50 лет в день начала занятий. Что им сказать друг другу?..
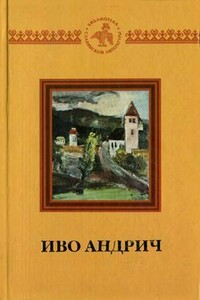
В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.