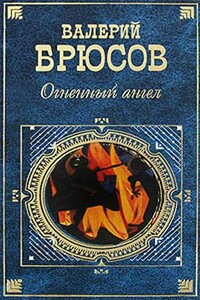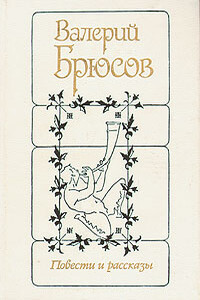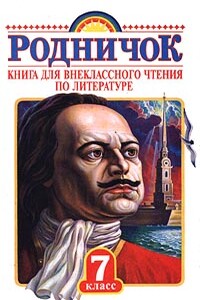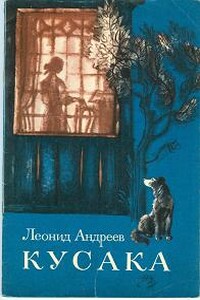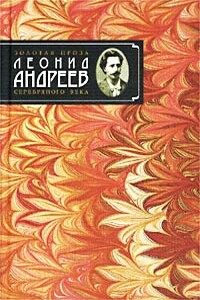В путь шествующему человеку первое дело сопутник; с умным и добрым товарищем и холод и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами все, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Но что скажу: оле тебе, Москва! оле тебе, древлего русского общества преславная царица! не были мы, старые верители, и тобою утешены.
Неохота бы говорить, а нельзя перемолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолюбии и благочестии, а на едином упрямстве, и, с каждым днем в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно: но, однако, сами себя стыдяся, мы о всем том друг другу молчали.
Изографы, разумеется, в Москве отыскались, и весьма искусные, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней; грунта кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого чтоб унизить ни во что вменяют; или еще того хуже, шайками совокупись, сообща хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое художество хвалят с кичливою надменностию, а другого рукомесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда, как воробьи за совами, старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают; амаль в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие за Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынею, и все это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие этою нечестною меною даже интересуются и хвалятся: что-де тот-то того-то так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул: и все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся, как Божьим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левой, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх.
«Неужто же, – думаем, – такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.
Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: «Как бы он в смущении чего недолжного не надумал?» – да и говорю:
– Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?
А он отвечает:
– Нет, – говорит, – дядя, ничего: это я так.
– Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать.
А Левонтий отвечает:
– Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду.
– Отчего же, – говорю, – ты не пойдешь?
– А так, – отвечает, – мне ноне что-то не по себе.
Ну, я его раз не нужу и два не нужу, а на третий опять зову:
– Пойдем, Левонтьюшка, пойдем, молодчик.
А он умильно кланяется и просит:
– Нету, дядюшка, голубчик белый: позволь мне дома остаться.
– Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а все дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь.
А он:
– Ну родненький, ну батечка, ну Марк Александрыч, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержать может.
Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит: