Николай II (Том I) - [55]
До сих пор Париж был для неё только калейдоскопом магазинов, ресторанов и театров, каким он представлялся большинству тогдашних богатых праздных русских.
В двери показался жирный обер-кондуктор с медалями, в пенсне на цепочке, с портфелем и щипцами для прострижки билетов. Затем постучались горничные и доложили, что всё готово.
Софи нехотя ушла к себе. Было так обидно, что Адашева прервали… Хорошо; что завтра они ещё полдня в дороге!
Почти институтская восторженность в её прощальном взгляде не ускользнула от флигель-адъютанта. Приятно шевельнулось мужское самодовольство.
«Прелестная женщина! – решил он, оставшись один. – И вся в контрастах. Чёрные иконописные брови, а волосы светлые, как у скандинавской русалки; шаловливые жизнерадостные искорки в карих зрачках и точно скрытая грусть в отчётливом разрезе губ… Счастливец!» – позавидовал он Репенину.
«Но разве можно её забрасывать? – Он задумчиво повёл по привычке плечом. – Так Серёжа потеряет её и сам будет виноват!»
Флигель-адъютанту давно хотелось пить. Несмотря на поздний час, он уверенно направился в вагон-ресторан.
С самого отхода поезда между столиками метался потный лакей-татарин и хлопал пробками.
За одним из них прочно уселась компания. Соковников изготовлял для Кислякова и Потроховского сложный крюшон собственного изобретения. Длинной ложкой он солидно разбалтывал смесь ликёров в большом стеклянном жбане.
– Однако!.. – воскликнул, подсаживаясь к ним, Сашок и недоверчиво, сквозь монокль, стал наблюдать, с какой бережностью банкир доливает жбан бутылкой шампанского.
Соковников прищёлкнул языком:
– Вы только попробуйте.
– Он у нас, знаете, мастер, – заверил Потроховский. Банкир налил всем по стопочке.
Сашок глотнул и ужаснулся:
– Динамит!..
– А по-моему, напиток с большим настроением, – одобрил Кисляков.
– С изюминкой!.. – игриво подхватил Сашок. Последовал один из тех сомнительных анекдотов, которыми обычно тешится мужская компания за вином.
Острослов был в ударе. Раздался дружный взрыв смеха. Соковников залился шумным безудержным хохотом.
– А теперь, – сказал Сашок, вставая, – нет, говорят, того приятного общества…
Остальные запротестовали:
– Уже спать?..
Сашок кивнул на заспанного татарина, перебиравшего пустые бутылки в лыковой корзине:
– Да всё равно нас отсюда скоро выставят.
Соковников преградил ему дорогу с бесцеремонной настойчивостью:
– Помилуйте! Мы, слава Богу, теперь в России. Сядем-ка да побеседуем…
– Ну уж если побеседуем, того и гляди: сядем! – с притворной опаской перебил Сашок.
– И вы думаете, нет? – полусерьёзно вмешался Потроховский, выпячивая нижнюю губу; от выпитого крюшона он чувствовал потребность излить душу. – Я, знаете, самый честный еврей. И плачу не пустяки, а первую гильдию[248]. А вот немножко проехали Вержболово, таки я уже боюсь.
«C'est un numero»[249], – отметил себе Сашок, оглядывая биржевика как любопытный бытовой материал.
Ему бросились в глаза его характерные уши. Посаженные наискось, заострённые кверху, они были совершенно таковы, как принято изображать у сатаны и прочей нечисти.
– Вы не думайте: я настоящий патриот. Я, знаете, весь капитал вложил в Россию!.. – наступательно затрещал Потроховский, размахивая руками.
– Разобьёте!..
Сашок подхватил стакан, который биржевик чуть было не смахнул рукавом.
Но тот продолжал надсаживаться:
- И разве хорошо, что режим хочет удавить моё внутреннее я?..
В его голосе слышалась горькая обида.
Соковников с мрачной сосредоточенностью подлил себе крюшону:
– Правительство всех теперь душит.
– Столыпинский галстук[250]! – пожал плечами Кисляков с невинным видом комнатной собачки, разжигающей исподтишка страсти нескольких соперников-барбосов.
– Засилье чиновников добром не кончится, – зарычал Соковников. – России надо: царь и народ. Остальное всё к чёрту. Никаких средостений…
Сашок усмехнулся:
– Charmant, mais le средостение, ma foi, c'est nous[251].
Завязалась оживлённая беседа… Перешли на землю, свободу печати и прочие наболевшие вопросы. Посыпались нападки на министров…
Кисляков ликовал: Столыпина громили с умилительным единодушием.
Но слово за слово, как полагается, повздорили.
Когда входил Адашев, встревоженный Кисляков уже всячески усовещивал рассвирепевшего Соковникова.
– Погоди, жидовская морда!.. – кричал подвыпивший банкир Потроховскому, угрожающе потрясая волосатым кулаком.
Возле стола лакей торопливо обтирал салфеткой облитый густыми ликёрами ковёр.
Сашок старался успокоить перетрухнувшего и разобиженного биржевика:
– Бросьте!.. Мало ли по пьяному делу…
А тот плаксиво сетовал:
– И почему это, знаете, всегда: как русский человек немножечко напьётся, так у него сейчас же – бей жидов!
Держась ещё за ручку двери, Адашев остановился в нерешительности: не лучше ли повернуть назад?
Но, увидя флигель-адъютанта, Потроховский метнулся прямо к нему:
– Будьте вы свидетелем!
– Ведь я не имею, собственно, никакого понятия, в чём дело, – заявил Адашев тоном человека, желающего сразу отмежеваться от всего предшествовавшего.
– Вы такой интеллигентный человек! – вцепился в него биржевик. – Вот что вы можете сказать о еврейских погромах?
Адашеву раньше как-то не приходилось над этим вопросом задумываться. Он всегда казался ему чем-то скучным и запутанным. Флигель-адъютант решил отделаться первым пришедшим в голову соображением.

В книгу вошли три романа об эпохе царствования Ивана IV и его сына Фёдора Иоанновича — последних из Рюриковичей, о начавшейся борьбе за право наследования российского престола. Первому периоду правления Ивана Грозного, завершившемуся взятием Казани, посвящён роман «Третий Рим», В романе «Наследие Грозного» раскрывается судьба его сына царевича Дмитрия Угличскою, сбережённого, по версии автора, от рук наёмных убийц Бориса Годунова. Историю смены династий на российском троне, воцарение Романовых, предшествующие смуту и польскую интервенцию воссоздаёт ромам «Во дни Смуты».

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков. Роман-хроника «Последний фаворит» посвящен последним годам правления русской императрицы Екатерины II. После смерти светлейшего князя Потёмкина, её верного помощника во всех делах, государыне нужен был надёжный и умный человек, всегда находящийся рядом. Таким поверенным, по её мнению, мог стать ее фаворит Платон Зубов.

В романе «Наследие Грозного» раскрывается судьба его сына царевича Дмитрия Угличского, сбереженного, по версии автора, от рук наемных убийц Бориса Годунова.
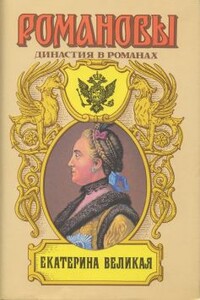
«Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сём отношении Екатерина заслуживает удивления потомства.Её великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало её владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве».А. С.
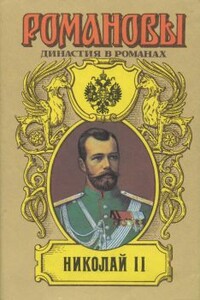
Ценность этого романа в том, что он написан по горячим следам событий в мае 1917 года. Он несет на себе отпечаток общественно-политических настроений того времени, но и как следствие, отличается высокой эмоциональностью, тенденциозным подбором и некоторым односторонним истолкованием исторических фактов и явлений, носит выраженный разоблачительный характер. Вместе с тем роман отличает глубокая правдивость, так как написан он на строго документальной основе и является едва ли не первой монографией (а именно так расценивает автор свою работу) об императоре Николае.
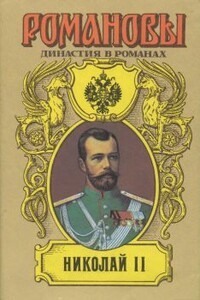
Уверенно предлагаю эту русскую книгу иностранному читателю. Не будучи литературным критиком, не берусь судить о вложенном в неё чистом художестве. Но если исторический роман — зеркало жизни, повёрнутое назад, то в данном случае задача выполнена. Отражение безусловно правдиво. Принадлежа сам к поколению, переживавшему трагический эпилог императорской России, я могу свидетельствовать о точности автора в освещении недавнего скорбного прошлого.Затронутые события ещё не отошли как будто в историческую даль. Некоторые из тогдашних деятелей живы посейчас; о других; умерших, так свежа память.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Повесть о рыбаках и их детях из каракалпакского аула Тербенбеса. События, происходящие в повести, относятся к 1921 году, когда рыбаки Аральского моря по призыву В. И. Ленина вышли в море на лов рыбы для голодающих Поволжья, чтобы своим самоотверженным трудом и интернациональной солидарностью помочь русским рабочим и крестьянам спасти молодую Республику Советов. Автор повести Галым Сейтназаров — современный каракалпакский прозаик и поэт. Ленинская тема — одна из главных в его творчестве. Известность среди читателей получила его поэма о В.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
