Николай Гумилев в воспоминаниях современников - [3]
Однажды Гумилев прочел мне прокламацию, лично им написанную. Это было в кронштадтские дни. Прокламация призывала рабочих поддержать восставших матросов, говорилось в ней что-то о «Гришке Распутине» и «Гришке Зиновьеве». Написана она была довольно витиевато, но Гумилев находил, что это как раз язык «доступный рабочим массам». Я поспорил с ним немного, потом спросил: «Как же ты так свою рукопись отдашь? Хотя бы на машинке переписал. Ведь мало ли куда она может попасть».
— Не беспокойся, размножат на ротаторе, а рукопись вернут мне. У нас это дело хорошо поставлено.
Месяца через два, придя к Гумилеву, я застал его кабинет весь разрытым. Бумаги навалены на полу, книги вынуты из шкафов. Он в этих грудах рукописей и книг искал чего-то.
— Помнишь ту прокламацию? Рукопись мне вернули. Сунул куда-то, куда не помню. И вот не могу найти. Пустяк, конечно, но досадно. И куда я мог ее деть?
Он порылся еще, потом махнул рукой, улыбнулся.
— Черт с ней! Если придут с обыском, вряд ли найдут в этом хламе. Раньше все мои черновики придется перечитать. Терпения не хватит.
«Терпения» по-видимому хватило. «Сочинял прокламации, призывавшие к свержению советской власти»…
Нашли, значит. Или может быть один из тех двух, о которых Гумилев говорил: «верю, как самому себе». И где теперь этот проклятый клочок бумаги, который в марте 1921 года держал я в руках…
Из воспоминаний Бенедикта Лившица мы можем почерпнуть подробности, касающиеся отношений Гумилева с футуристами. Гумилев сознавал себя их литературным противником, однако жизненные ситуации сталкивали его с ними не столь уж редко. Вслед за этим в нашем сборнике приводятся воспоминания Георгия Адамовича. Мы видим Гумилева в созданном им Цехе поэтов, в его отношении к поэзии Ахматовой и в отношении к Блоку, поэту и человеку. Затем следует рецензия Вл. Шкловского на «Костер» Гумилева. Написана она человеком, встречавшимся с Гумилевым лично. Отзыв Вл. Шкловского содержит несколько мемуарных штрихов, и поэтому мы посчитали уместным включить эту рецензию в книгу мемуарного характера. Такова же статья Николая Минского: строго говоря, по жанру это рецензия на вышедший в августе 1921 г. «Огненный столп». Но это такая рецензия, которая дала ее автору повод к дельным и детальным воспоминаниям.
Николай Оцуп писал о Гумилеве почти так же много, как и Г. Иванов. О Гумилеве Оцуп писал докторскую диссертацию. Но здесь нас интересует Оцуп как мемуарист. Его знакомство с Гумилевым продолжалось с 1918 по 1921 год. Как человек на всю жизнь полюбивший поэзию Гумилева и как исследователь его творчества Оцуп был одним из наиболее осведомленных людей когда-либо писавших о Гумилеве. Его воспоминания всегда будут оставаться одной из важных частей «гумилевианы».
Знакомство Л. Страховского с Гумилевым, напротив, было кратковременным. Зато эпизод, рассказанный Страховским, — один из самых волнующих во всех биографии поэта. Относится он к маю 1918 г., когда Гумилев только что вернулся в Советский Петроград после годичного пребывания за границей. Он выступил 13 мая с чтением стихов на том же литературном утреннике, где жена Блока читала злосчастные «Двенадцать», и затем после перерыва выступил и сам Блок. Об отношениях двух крупнейших поэтов своего времени написано сравнительно много. Но, пожалуй, наиболее ярким в этой области остается очерк Ходасевича «Гумилев и Блок». Более ранний вариант этого же очерка цитируется в комментариях.
С Андреем Левинсоном, плодовитым художественным критиком и переводчиком, Гумилева объединяла работа в «Аполлоне», а позднее в издательстве «Всемирная литература». Левинсон обратил внимание на творчество поэта еще в начале 1909 г. и опубликовал в «Современном мире» содержательную рецензию на «Романтические Цветы». После гибели Гумилева был Левинсон одним из первых, кто откликнулся в печати на весть о трагедии, постигшей нашу литературу. Он писал о Гумилеве неоднократно, выступил с лекцией о нем в Сорбонне, а в 1922 году в «Современных записках», лучшем русском зарубежном журнале, опубликовал свой очерк «Гумилев», включенным, в настоящее издание. А. Левинсон четко формулирует свое понимание Гумилева поэта и человека: «Мерой вещей была для него поэзия… Музыка сфер — прообразом стихотворной ритмики».
Затем в этой книге помещена забытая, извлеченная из старой периодики, страничка воспоминаний журналиста Петра Рысса и следом за ней — воспоминания Вс. Рождественского, правоверного советского поэта, в юности столь многим обязанного Гумилеву, но «благоразумно» отрекшегося от учителя.
Напротив, воспоминания Немировича-Данченко дают яркий портрет Гумилева и сообщают о малоизвестных фактах биографии, например, о желании бежать из советского рая через эстонскую границу.
Эти сведения дополняются заметкой С. Познера, напечатанной в «Последних новостях» через несколько дней после того, как за границей стало известно о казни поэта. Подробности ареста и сопутствующих обстоятельств читатель найдет в приведенной здесь главе из забытой книги А. Амфитеатрова «Горестные заметы» и в меньшей степени в очерке Адамовича «Памяти Гумилева». Этот очерк, заключительный в нашей книге, заканчивается очень верными словами: «Ранняя насильственная смерть дала толчок к расширению поэтической славы Гумилева… Стихи его читаются не одними литературными специалистами или поэтами: их читает рядовой читатель и приучается любить эти стихи, мужественные, умные, стройные, благородные, человечные — в лучшем смысле слова».
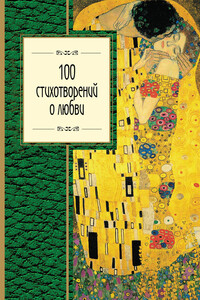
Что такое любовь? Какая она бывает? Бывает ли? Этот сборник стихотворений о любви предлагает свои ответы! Сто самых трогательных произведений, сто жемчужин творчества от великих поэтов всех времен и народов.
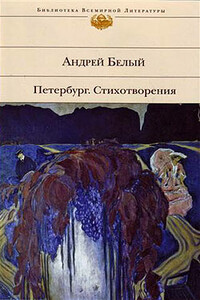
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
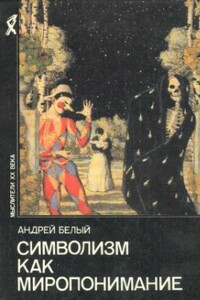
Андрей Белый (1880–1934) — не только всемирно известный поэт и прозаик, но и оригинальный мыслитель, теоретик русского символизма. Книга включает наиболее значительные философские, культурологичекие и эстетические труды писателя.Рассчитана на всех интересующихся проблемами философии и культуры.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
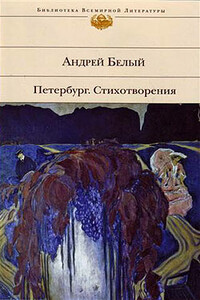
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».Помимо «Петербурга» в состав книги вошли стихотворения А.Белого из сборников «Золото в лазури», «Пепел» и поэма «Первое свидание».

Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания А.В. Лаврова.Тексты четырех «симфоний» Андрея Белого печатаются по их первым изданиям, с исправлением типографских погрешностей и в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации (но с сохранением специфических особенностей, отражающих индивидуальную авторскую манеру). Первые три «симфонии» были переизданы при жизни Белого, однако при этом их текст творческой авторской правке не подвергался; незначительные отличия по отношению к первым изданиям представляют собой в основном дополнительные опечатки и порчу текста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.