Ницше и нимфы - [10]
Не так ли ведут дорогами мертвого мира, и движение это становится новой формой моего существования в потустороннем мире? Я пытаюсь нарушить окаменелость ведущих меня фигур, протягиваю руку в сторону и натыкаюсь на восковую ладонь, обнаруживающую внутри тупую, как обух, твердость.
Я уже во сне понимаю, что всё это мне снится, но не могу выпутаться из липкой паутины сна.
Внезапна мысль, что, подобно пытке дыбой, распятием, электрошоком, водой и огнем, есть пытка движением.
Я просыпаюсь, попадая в новый сон, пропадая в нём, ожидая, как спасения, звука открывающейся двери, но она недвижна, как нарисованная Микеланджело дверь в гробнице Медичи во Флоренции, за которой я, Фридрих-Вильгельм, был заживо погребён.
При свете дня ночной бесконечный коридор оказывается совсем коротким. Такая глупость: он, что, при свете сокращается? Или это предчувствие приближающегося приступа?
Приходит мысль — «Воображение обладает своим центром тяжести. Когда же сдвигается центр тяжести души, человек теряет умение и чувство — отличать добро от зла. А ведь человек — мера времени, и на уровне существования его не сдвинешь, чтобы не сотрясти окружающую реальность, в глубине которой иное соотношение прошлого, настоящего и будущего. Сама материя времени смущаема и смещаема не в физическом понимании сжатия и расширения, зависящего от скорости, а в экзистенциальном ощущении медленно тянущегося времени страха и депрессии в палате умалишенных.
Но лучше ли проживание на воле, в быстро несущемся времени, в эйфории, чаще всего не оправданной?
Все беды в мире людей происходят от нарциссизма, от скрытого любования самим собой, от отсутствия чувства реальности, от длительной безнаказанности, которая рождает уверенность во вседозволенности».
Мои книги раскроют глаза человечеству, — это говорю я, Фридрих-Вильгельм. — Потрясению не будет предела.
Но о чем это говорит и почему это потрясает?
И что это даст мне, автору, кроме потрясения человеческой глупостью, и странной печали от чувства сладкой мести по ту сторону жизни?
Неужели слава человеческая — пустой звук, но желание ее — ненасытно?
Только Бог мог надиктовать Моисею Книгу, заранее зная неисповедимость путей ее возникновения до Сотворения мира, как предварительного его плана, без которого мир этот никогда не выберется из первобытного хаоса.
Только Он предвидел непрекращающийся спор о вечности и неистребимости Книги.
Во сне меня посетил Петер, и я говорил ему: пусть тебя не смущает, что иногда, сам того не замечая, я говорю о себе в «третьем лице». Рассказывая и думая о себе, я словно вижу себя и всю свою жизнь, да и все свои труды, со стороны — в явно грязном, с ржавыми подтеками, словно облеванном зеркале в незнакомом вначале, но явно угрожающем месте, — моей палате?
Кто же я — истинный? — ich bin, do bist, er ist…
Потрясает эта явно безумная легкость перескакивания с «я» на «ты» и «он» в обращении к самому себе.
Но пусть у тебя, дорогой Петер, не вызывает удивление то, что я буду относиться к себе то в первом, то во втором, то в третьем лице, как Он. Подобно Ему, говоря впрямую, одновременно вижу себя со стороны. Этот двойной или тройной фокус, в котором я узнавал и не узнавал себя, всегда не давал мне покоя. Это было Его сущностью. Ему не мешало, к примеру, явиться Мухаммеду в первом лице. Меня же это свело с ума.
Знаешь, особенно мне тяжело с наступлением весны. За окном наплывает солнечным таянием месяц март. Может ли быть что-либо страшнее для человеческого существа, чем этот одуряющий запах жизни, просачивающийся сквозь законопаченные окна дома умалишенных без всякой надежды — выбраться, которая дана даже узнику.
А тут еще Мама является, когда после обеда, по обыкновению, я сажусь за рояль.
Продолжаю играть, как бы ее не видя и зная, что в музыке она весьма несведуща.
Она помалкивает, и я смягчаюсь, принимая ее молчание за деликатность по отношению ко мне. Только к вечеру, когда мне, честно признаться, слегка надоело ее присутствие, она спрашивает, что я играл. Отвечаю: «Опус 31 в трех частях Людвига ван Бетховена». И эта старая дура в письме к Францу Овербеку, священнику и любимому моему другу, потрясенно сообщает о моей столь осмысленной игре, что ей кажется, — я все же мыслю. Вряд ли она знает, что повторяет начало слов Декарта: я мыслю, значит, существую.
Кажется, она весьма рискует, собираясь забрать меня домой, в Наумбург, под расписку, ибо, хотя колеблется, но все же рассчитывает на скорое мое выздоровление. Хорошо еще, что в доме она одна. Сестрица собирается вернуться из Парагвая лишь осенью.
Я ненавижу себя, прежнего, размышляющего в домашнем халате, как Гегель в ночном колпаке. Если Сократ выпил яд за свои убеждения, то я все время зациклен на своем здоровье, но мне это не помогает.
Чтобы преодолеть смертельную дозу глубокомыслия, я бросаюсь в пляс, называя его «веселой наукой». Но этот перепад оборачивается не спасением, а приступом на грани безумия, предвещающим полный уход с редкими просветлениями — в безумие, на радость ограниченным эскулапам.
Меня, как пуповину, обвивающую удушающими путами, изводит сложнейший психологический клубок круговоротов душ в моей книге «Человеческое, слишком человеческое». Но мне уже не дано переписать эту книгу заново.
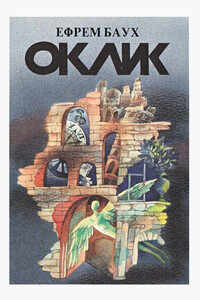
Роман крупнейшего современного израильского писателя Эфраима(Ефрема) Бауха «Оклик» написан в начале 80-х. Но книга не потеряла свою актуальность и в наше время. Более того, спустя время, болевые точки романа еще более обнажились. Мастерски выписанный сюжет, узнаваемые персонажи и прекрасный русский язык сразу же сделали роман бестселлером в Израиле. А экземпляры, случайно попавшие в тогда еще СССР, уходили в самиздат. Роман выдержал несколько изданий на иврите в авторском переводе.

Роман Эфраима Бауха — редчайшая в мировой литературе попытка художественного воплощения образа самого великого из Пророков Израиля — Моисея (Моше).Писатель-философ, в совершенстве владеющий ивритом, знаток и исследователь Книг, равно Священных для всех мировых религий, рисует живой образ человека, по воле Всевышнего взявший на себя великую миссию. Человека, единственного из смертных напрямую соприкасавшегося с Богом.Роман, необычайно популярный на всем русскоязычном пространстве, теперь выходит в цифровом формате.

Судьба этого романа – первого опыта автора в прозе – необычна, хотя и неудивительна, ибо отражает изломы времени, которые казались недвижными и непреодолимыми.Перед выездом в Израиль автор, находясь, как подобает пишущему человеку, в нервном напряжении и рассеянности мысли, отдал на хранение до лучших времен рукопись кому-то из надежных знакомых, почти тут же запамятовав – кому. В смутном сознании предотъездной суеты просто выпало из памяти автора, кому он передал на хранение свой первый «роман юности» – «Над краем кратера».В июне 2008 года автор представлял Израиль на книжной ярмарке в Одессе, городе, с которым связано много воспоминаний.

Крупнейший современный израильский романист Эфраим Баух пишет на русском языке.Энциклопедист, глубочайший знаток истории Израиля, мастер точного слова, выражает свои сокровенные мысли в жанре эссе.Небольшая по объему книга – пронзительный рассказ писателя о Палестине, Израиле, о времени и о себе.
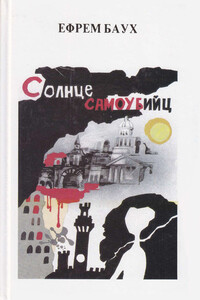
Эфраим (Ефрем) Баух определяет роман «Солнце самоубийц», как сны эмиграции. «В эмиграции сны — твоя молодость, твоя родина, твое убежище. И стоит этим покровам сна оборваться, как обнаруживается жуть, сквозняк одиночества из каких-то глухих и безжизненных отдушин, опахивающих тягой к самоубийству».Герои романа, вырвавшись в середине 70-х из «совка», увидевшие мир, упивающиеся воздухом свободы, тоскуют, страдают, любят, сравнивают, ищут себя.Роман, продолжает волновать и остается актуальным, как и 20 лет назад, когда моментально стал бестселлером в Израиле и на русском языке и в переводе на иврит.Редкие экземпляры, попавшие в Россию и иные страны, передавались из рук в руки.
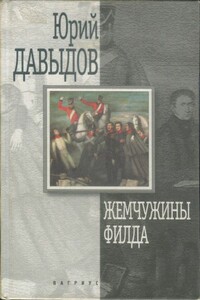
В послеблокадном Ленинграде Юрий Давыдов, тогда лейтенант, отыскал забытую могилу лицейского друга Пушкина, адмирала Федора Матюшкина. И написал о нем книжку. Так началась работа писателя в историческом жанре. В этой книге представлены его сочинения последних лет и, как всегда, документ, тщательные архивные разыскания — лишь начало, далее — литература: оригинальная трактовка поведения известного исторического лица (граф Бенкендорф в «Синих тюльпанах»); событие, увиденное в необычном ракурсе, — казнь декабристов глазами исполнителей, офицера и палача («Дорога на Голодай»); судьбы двух узников — декабриста, поэта Кюхельбекера и вождя иудеев, тоже поэта, персонажа из «Ветхого Завета» («Зоровавель»)…
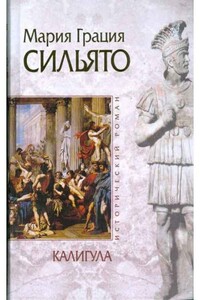
Одна из самых загадочных личностей в мировой истории — римский император Гай Цезарь Германии по прозвищу Калигула. Кто он — безумец или хитрец, тиран или жертва, самозванец или единственный законный наследник великого Августа? Мальчик, родившийся в военном лагере, рано осиротел и возмужал в неволе. Все его близкие и родные были убиты по приказу императора Тиберия. Когда же он сам стал императором, он познал интриги и коварство сенаторов, предательство и жадность преторианцев, непонимание народа. Утешением молодого императора остаются лишь любовь и мечты…
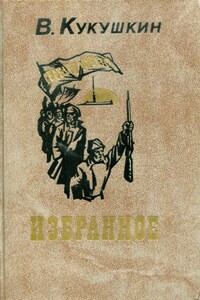
В однотомник известного ленинградского прозаика вошли повести «Питерская окраина», «Емельяновы», «Он же Григорий Иванович».

Кен Фоллетт — один из самых знаменитых писателей Великобритании, мастер детективного, остросюжетного и исторического романа. Лауреат премии Эдгара По. Его романы переведены на все ведущие языки мира и изданы в 27 странах. Содержание: Кингсбридж Мир без конца Столп огненный.
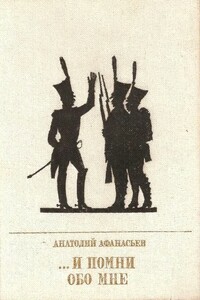
Анатолий Афанасьев известен как автор современной темы. Его перу принадлежат романы «Привет, Афиноген» и «Командировка», а также несколько сборников повестей и рассказов. Повесть о декабристе Иване Сухинове — первое обращение писателя к историческому жанру. Сухинов — фигура по-своему уникальная среди декабристов. Он выходец из солдат, ставший поручиком, принявшим активное участие в восстании Черниговского полка. Автор убедительно прослеживает эволюцию своего героя, человека, органически неспособного смириться с насилием и несправедливостью: даже на каторге он пытается поднять восстание.

Беллетризованная повесть о завоевании и освоении Западной Сибири в XVI–XVII вв. Начинается основанием города Тобольска и заканчивается деятельностью Семена Ремизова.
