Нестеров - [169]
Он внимательно прислушивался к себе, проверял себя: как он живет? Только существователем или настоящим человеком, с живым сердцем, бодрою мыслию, творческой волей?
Ему нелегко было признаваться и себе и близким в усталости, в упадке сил, в «одолении», как он выражался, старостью.
Уезжая из Болшева в последний раз, он говорил:
– Умирать пора, а вот с природой жалко расставаться. – Он оглянул широкий окоем луговины, реки, леса и тихо произнес: – Умирать буду – и все природу вспоминать. Не расставался бы с ней!
Осенью наступило обострение застарелой болезни, возникла необходимость операции. 8 октября был созван консилиум профессоров С.С. Юдина и А.П. Фрумкина. Решено было срочно оперировать.
На другой день, 9-го утром, я был у Михаила Васильевича.
Он оживленно, много, с увлечением говорил со мною.
Прежде всего речь зашла о моей книжке о нем, только что вышедшей в издательстве «Искусство».[38] Он благодарил за нее, отмечал лучшие места, побранил за погрешности и кончил, как всегда, сердечными словами признательности за дружбу и труд.
Тут же объявил мне Михаил Васильевич о предстоящей операции.
Операции он, видимо, боялся.
Он высказал свое намерение писать очерк о Риме для второго издания «Давних лет»: эту работу он предполагал сделать в больнице, подобно тому как в Институте рентгенологии он написал очерк о Ярошенко.
Перед отъездом в Боткинскую больницу, 10 октября, Нестеров был на концерте Н.А. Обуховой, который она давала для него на квартире профессора Игумнова. Этот необычайный концерт перед операцией состоялся по желанию самого Михаила Васильевича, который ценил и уважал Обухову как высоко одаренную артистку.
Н.А. Сильверсван рассказывает, что, когда он на следующее утро зашел к Михаилу Васильевичу, тот встретил его словами: «Какой чудесный голос, какое обаяние в ее пении, какое наслаждение я вчера получил! Вот если бы я раньше был с ней знаком, я бы непременно уже с нее написал портрет… Я рад, что услыхал ее именно перед отъездом и перед операцией… Если все будет благополучно, буду просить Надежду Андреевну позировать мне: старик ведь неугомонный, никак не может успокоиться… А теперь попрошу вас передать ей вот этот рисунок-акварель. Хотел вчера закончить и отдать ей, да не успел, все народ да народ. Сегодня утром встал и кончил. Так, нестеровщина».
«Нестеровщиной» Нестеров обозвал прекрасную акварель на излюбленную тему: одинокая девушка открывает свою скорбную душу безмолвным ласкам родной природы.
Это была последняя работа Нестерова.
Судьба пожелала, чтобы автор «Христовой невесты» простился с искусством своей проникновенной элегией о русской женщине.
Е.П. Разумова сообщает о последних днях Нестерова:
«Воскресенье, 11 октября, по словам близких, провел в большом обществе, внешне спокойно, но нервное напряжение, конечно, не оставляло Мих. Вас. В понедельник М.В. уехал в Боткинскую больницу в отделение проф. А.П. Фрумкина для оперативного вмешательства. На 15 октября предположительно была назначена операция, а утром 15 октября в 5 час. Мих. Вас. потерял сознание – у него был инсульт – спазм мозговых сосудов, поведший за собой упадок сердечной деятельности, сопровождающийся отеком легких.
16 октября М. В. пришел в сознание, хотел видеть меня; утром в субботу я была у Мих. Вас. в больнице.
Когда я вошла в палату, то для меня было ясно, что Мих. Вас. погибает – предагональное состояние и большой нервный озноб… Был короткий период, когда Мих. Вас. поверил в свое выздоровление, но одышка брала свое… Скоро последовала агония, и Мих. Вас. скончался после полуночи на руках жены своей Екатерины Петровны.
Скончался Мих. Вас. от инсульта головного мозга; нервная система не выдержала напряженного ожидания операции, которой он так боялся всю последнюю жизнь, а затем уже наступила сердечная слабость и паралич сердца».
Похороны М.В. Нестерова по решению Совнаркома СССР были приняты на счет государства.
Его гроб утопал в живых цветах и зелени. Венки от правительственных и общественных организаций, от друзей и почитателей Нестерова были увиты белыми и черно-красными лентами.
В день погребения, во вторник 20 октября, с раннего утра зал Третьяковской галереи переполнен был народом, пришедшим проститься со славным русским художником. В почетном карауле у гроба почившего беспрестанно сменялись художники, писатели, артисты, ученые, общественные деятели, друзья и почитатели.
Гражданскую панихиду открыл председатель Комитета по делам искусств М.Б. Храпченко. С речами о почившем выступили А.М. Герасимов – от Оргкомитета Союза советских художников, В.В. Журавлев – от Московского отделения Союза художников, Г.В. Жидков – от Третьяковской галереи, В.С. Кеменов – от имени Всесоюзного общества культурной связи с заграницей.
Последнюю, заключительную речь над гробом М.В. Нестерова выпало на долю произнести мне. Я пытался выразить чувства многих тысяч людей, горячо и преданно любивших Нестерова.
Два года назад Михаил Васильевич говорил мне:
– Что бы ни говорили, что бы ни писали обо мне, жить буду не я – жить будут, если будут, мои картины. Но в том-то и штука: если будут. Вот посмотрим. Пройдет лет двадцать пять – тридцать. Вот если тогда «Варфоломей» скажет что-нибудь подошедшему к картине, значит, он жив, значит, жив и я. Высочайшее из званий – так я думал всегда, так и думаю и теперь – это художник. Немногие имеют на него право. Ничего бы я так не хотел, как заслужить это звание, чтоб на моей могиле по праву было написано: художник Нестеров.
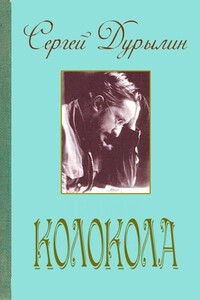
Написанная в годы гонений на Русскую Православную Церковь, обращенная к читателю верующему, художественная проза С.Н.Дурылина не могла быть издана ни в советское, ни в постперестроечное время. Читатель впервые обретает возможность познакомиться с писателем, чье имя и творчество полноправно стоят рядом с И.Шмелевым, М.Пришвиным и другими представителями русской литературы первой половины ХХ в., чьи произведения по идеологическим причинам увидели свет лишь спустя многие десятилетия.

Публикацию подготовили А.А. Аникин и А.Б. Галкин по тексту, хранящемуся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Впервые опубликовано в газете "Российский писатель, №7, 2008 г.
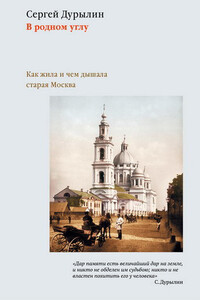
«В родном углу» – автобиографическая книга замечательного русского писателя, богослова, педагога, литературоведа С.Н. Дурылина (1886–1954). В ней собраны бесценные для потомков воспоминания о Москве, в которой прошли детство и юность автора. Страстно любящий свой родной город, проницательный наблюдатель и участник его повседневной жизни, Дурылин создает блестящие по своей выразительности и глубине «обзоры» целых срезов, пластов жизни дореволюционной Москвы. Это и описание купеческого сословия, его характеров и непреложных нравственных устоев, и подробное художественное исследование социального устройства города – гимназий, богаделен, рынков, торговых лавок, транспортного сообщения, общественных столовых, порядка проведения городских праздников и многое другое.
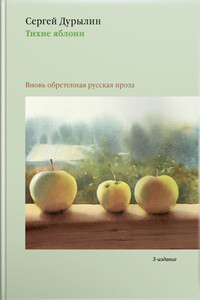
Писатель, богослов, педагог, театральный и литературный критик С. Н. Дурылин – яркий и незаслуженно забытый представитель русской культуры первой половины ХХ столетия. Его повести и рассказы, открывающие нам мир простой, искренней, «немудрящей» веры и крепкого купеческого быта, печатались редко и почти неизвестны широкому кругу читателей. В этот сборник вошли разноплановые произведения Дурылина: это и лиричная и пронзительная повесть «Сударь кот», и трогательный, грустный рассказ «Бабушкин день», и былинное «Сказание о невидимом граде Китеже», и некоторые другие.
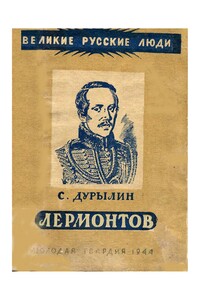
Книга о Великом русском поэте М. Ю. Лермонтове, прожившем короткую жизнь, но оставившем в русской литературе неизгладимый след.
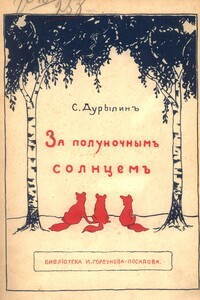
За полуночным солнцем - По Лапландии пешком и на лодке - Предлагаемые очерки скитаний “За полуночным солнцем” составились из путевых заметок, веденных автором во время командировки на север, данной ему Московским Археологическим Институтом в 1911 году. К ним он счел нужным присоединить главу о лопарях, написанную как на основании существующей литературы о лопарях, так и на основании собственных наблюдений.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.