Неописуемое сообщество - [16]
Он ничего не отвечает; на его месте и я воздержался бы от ответа или, возвращаясь к нашим грекам, сказал бы: Я тоже знаю, кто вы такая. Вовсе не Афродита небесная или ураническая, довольствующаяся лишь любовью к душам (или мальчикам), не Афродита земная или площадная, влекущаяся лишь к плоти, включая и женскую плоть; вы — не та и не другая, вы — третья, самая безымянная и страшная, но именно поэтому и самая любимая. Вы таитесь за той и за другой, вы неотделимы от них; вы — Афродита хтоническая или подземная, которая принадлежит смерти[16] и ведет к ней тех, кого избирает она, и тех, кто избирают ее. Она олицетворяет собою море, которое ее породило (и не перестает порождать), и ночь, равнозначную беспробудному сну и молчаливому призыву, обращенному к «сообществу любовников»; отвечая на этот зов, в котором звучит невозможное требование, любовники обрекают друг друга на неотвратимую смерть. Смерть, по определению, бесславную, безутешную, беспомощную, с которой не может сравниться никакой другой вид уничтожения, за исключением, пожалуй, того, что вписан в само письмо, когда вытекающее из него произведение заранее означает отказ от творчества и указывает лишь на пространство, в котором для всех и каждого, а, стало быть, ни для кого, звучит слово, исходящее из недеяния:
(Марина Цветаева. «Эвридика — к Орфею»)
Сообщество любовников. Не парадоксален ли этот романтический заголовок, предпосланный мною страницам, где нет ни разделенной страсти, ни настоящих любовников? Несомненно. Но этот парадокс объясним, быть может, экстравагантностью того, что мы пытаемся обозначить словом сообщество. Тем более, что нам пора, пусть ценой некоторых усилий, указать разницу между сообществом традиционным и сообществом избирательным. Первое из них навязывается нам извне, без нашего на то согласия: это фактическая социальность или обоготворение почвы, крови, а то и расы. Ну, а второе? Его называют избирательным в том смысле, что оно не могло бы существовать помимо воли тех, кто свободно сделал свой выбор; но свободен ли он? Или, по меньшей мере, достаточно ли этой свободы для выражения, для утверждения выбора, на котором зиждется это сообщество? Точно так же можно задаться и другим вопросом: можно ли без околичностей говорить о сообществе любовников? Жорж Батай писал: «Если бы мир не был беспрестанно сотрясаем судорожными порывами существ, ищущих друг друга, он был бы всего лишь насмехательством над теми, кому предстоит в нем родиться». Но как понимать эти «судорожные порывы», благодаря которым мир обретает ценность? Идет ли здесь речь о любви (счастливой или неразделенной), которая порождает своего рода общество в обществе и получает от последнего право называться обществом законным или супружеским? Или здесь подразумевается порыв, которому нельзя подыскать никакого названия, будь то любовь или похоть, но который, тем не менее, влечет людей друг к другу, попарно или более-менее коллективно, вырывая их таким образом из обычного общества? Одни стремятся к другим по зову плоти, другие — по сердечному зову, третьи руководствуются мыслью. В первом случае (определим его несколько упрощенно как супружескую любовь) становится ясно, что здесь «сообщество любовников» ослабляет свои требования из-за компромисса с коллективом, который позволяет ему выжить, заставив отречься от своей главной черты: тайны, за которой скрывается «неистовый разгул»[17]. Во втором случае сообщество любовников не заботится ни о традиционных формах, ни об одобрении со стороны общества, пусть даже самом сдержанном. С этой точки зрения так называемые «веселые дома» или то, во что они теперь превратились, не говоря уже о замках де Сада, уже не представляются некой маргинальностью, способной поколебать устои общества. Как раз наоборот: эти особые заведения легализируются тем легче, чем кажутся более запретными. Из того, что мадам Эдварда довольно-таки банальным образом заголяется при посетителях, обнажая самую сакральную часть своего существа, вовсе не следует, что она бросает вызов нашему миру или миру вообще. Она бросает вызов, поскольку эксгибиция отстраняет ее от общества, делает в прямом смысле слова неуловимой и, отдаваясь первому встречному (скажем, какому-нибудь шоферу), отдаваясь всего на мгновение, но с бесконечной страстью, она приносит себя в жертву. Что же касается «первого встречного», он даже не догадывается и никогда не догадается, что имеет дело с чем-то в высшей мере божественным, с отблеском абсолюта, никакое уподобление которому совершенно невозможно.
Всякое сообщество любовников, хотят ли они этого или нет, рады этому или не рады, связаны ли между собой игрой случая, «безумной любовью» или «смертельной страстью» (Кпейст), имеет главной целью только одно разрушение общества. Там, где складывается эпизодическое сообщество двух существ, созданных или не созданных друг для друга, образуется некая военная машина или, правильней говоря, создается возможность угрозы, которую она в себе несет, какой бы минимальной эта угроза ни была, — угрозы вселенского разрушения. С этой-то позиции и нужно рассматривать «сценарий», придуманный Маргерит Дюра и неизбежно включивший в себя ее самое, как только она его сочинила. Изображенные в нем мужчина и женщина, не испытывающие ни радости, ни счастья и, в сущности, бесконечно друг от друга далекие, символизируют надежду на особость, которую им не дано разделить ни с кем другим, и не только потому, что они замкнуты в самих себе, но и потому, что в пору общественного безразличия к чужим судьбам, они замкнуты в себе вместе со смертью. Женщина прозревает в мужчине воплощение смерти и смертельный удар, знак страсти, который она понапрасну стремится от него получить. Можно сказать, что изображая мужчину, навеки отъединенного от любого проявления женственности, даже тогда, когда он соединяется со случайной женщиной, даруя ей блаженство, которого не в силах испытать он сам, — изображая все это, Маргерит Дюра предвидела, что им предстоит каким-то образом вырваться из этого заколдованного круга, зачастую представляемого как романтический союз любовников, слепо влекомых скорее стремлением к гибели, чем друг к другу. И однако она воспроизводит одну из возможных ситуаций, которые так часто разыгрывались в воображении де Сада (и в его жизни), в качестве банального примера игры страстей. Апатия, невозмутимость, отсутствие чувств и импотенция во всех ее формах не только не мешают отношениям между людьми, но и приводят эти отношения к преступлению, которое является крайней и (если можно так сказать) раскаленной добела формой бесчувственности. Но в том повествовании, которое мы крутим и вертим во все стороны, стараясь выведать скрытую в нем тайну, смерть хоть и призывается, но в то же время обесценивается, а бесчувствие героев столь ничтожно, что они не решаются преступить роковую черту, отделяющую их от смерти, либо, напротив, достигает такого безмерного размаха, который не снился и самому де Саду.
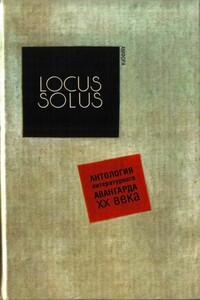
В этой книге собраны под одной обложкой произведения авторов, уже широко известных, а также тех, кто только завоевывает отечественную читательскую аудиторию. Среди них представители нового романа, сюрреализма, структурализма, постмодернизма и проч. Эти несвязные, причудливые тексты, порой нарушающие приличия и хороший вкус, дают возможность проследить историю литературного авангарда от истоков XX века до наших дней.
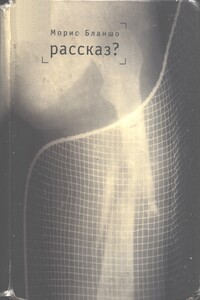
Морис Бланшо (р. 1907) — не только один из крупнейших мыслителей ушедшего века, оказавший огромное влияние на самоосознание всей современной гуманитарной мысли (по словам Мишеля Фуко, "именно Бланшо сделал возможным рассуждения о литературе"), но и автор странной, до сих пор не вполне освоенной критикой прозы. Отказавшись после первых опытов от традиционного жанра романа, все остальные свои художественные тексты писатель отнес к оригинально трактуемому жанру recit, рассказа (для него в эту категорию попадают, в частности, "Моби Дик" и "В поисках утраченного времени").Настоящее издание представляет собой полное собрание "рассказов" Мориса Бланшо и посвящается девяностопятилетию писателя.

Как писал испанский философ, социолог и эссеист Хосе Ортега-и-Гассет, «от культуры в современном мире остался лишь легкий аромат, – уходящий и уже трудноуловимый». Цивилизация, основанная на потреблении и эгоистическом гедонизме, порождает деградацию общественных и культурных идеалов, вырождение искусства. В то же время Гассет пытается найти особую эстетику распада, которую он видит в модерне. Эту тему продолжает Морис Бланшо, французский писатель, мыслитель-эссеист, пытаясь найти антитезу массовой культуре.

Поводом к изданию данного сборника послужил необыкновенный успех, который выпал на долю книги П. Зюскинда «Парфюмер» и на фильм, снятый по ее мотивам. Собственно, жуткая история маньяка-изобретателя достаточно широко распространена в литературе «ужасов» и фильмах соответствующего направления, так что можно было бы не подводить философскую базу под очередной триллер-бестселлер, но книга Зюскинда все же содержит ряд вопросов, требующих осмысления. В чем причина феноменального успеха «Парфюмера», почему он понравился миллионам читателей и зрителей? Какие тайны человеческой души он отразил, какие стороны общественной жизни затронул?Ответы на эти вопросы можно найти в трудах философов М.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
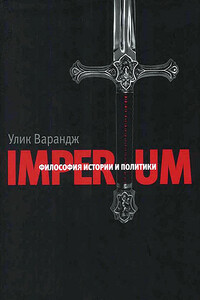
Данное произведение создано в русле цивилизационного подхода к истории, хотя вслед за О. Шпенглером Фрэнсис Паркер Йоки считал цивилизацию поздним этапом развития любой культуры как высшей органической формы, приуроченной своим происхождением и развитием к определенному географическому ландшафту. Динамичное развитие идей Шпенглера, подкрепленное остротой политической ситуации (Вторая мировая война), по свежим следам которой была написана книга, делает ее чтение драматическим переживанием. Резко полемический характер текста, как и интерес, которого он заслуживает, отчасти объясняется тем, что его автор представлял проигравшую сторону в глобальном политическом и культурном противостоянии XX века. Независимо от того факта, что книга постулирует неизбежность дальнейшей политической конфронтации существующих культурных сообществ, а также сообществ, пребывающих, по мнению автора, вне культуры, ее политологические и мировоззренческие прозрения чрезвычайно актуальны с исторической перспективы текущего, XXI столетия. С научной точки зрения эту книгу критиковать бессмысленно.
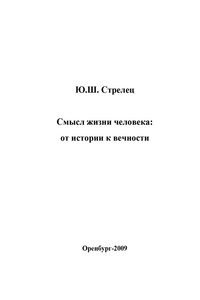
Монография посвящена исследованию главного вопроса философской антропологии – о смысле человеческой жизни, ответ на который важен не только в теоретическом, но и в практическом отношении: как «витаминный комплекс», необходимый для полноценного существования. В работе дан исторический обзор смысложизненных концепций, охватывающий период с древневосточной и античной мысли до современной. Смысл жизни исследуется в свете философии абсурда, в аспекте цели и ценности жизни, ее индивидуального и универсального содержания.

Данная работа является развитием и продолжением теоретических и концептуальных подходов к теме русской идеи, представленных в предыдущих работах автора. Основные положения работы опираются на наследие русской религиозной философии и философско-исторические воззрения ряда западных и отечественных мыслителей. Методологический замысел предполагает попытку инновационного анализа национальной идеи в контексте философии истории. В работе освещаются сущность, функции и типология национальных идей, система их детерминации, феномен национализма.
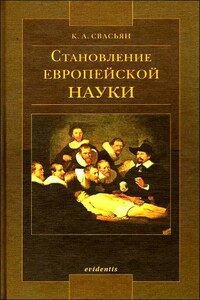
Первая часть книги "Становление европейской науки" посвящена истории общеевропейской культуры, причем в моментах, казалось бы, наиболее отдаленных от непосредственного феномена самой науки. По мнению автора, "все злоключения науки начались с того, что ее отделили от искусства, вытравляя из нее все личностное…". Вторая часть исследования посвящена собственно науке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Санкт-Петербург - город апостола, город царя, столица империи, колыбель революции... Неколебимо возвысившийся каменный город, но его камни лежат на зыбкой, болотной земле, под которой бездна. Множество теней блуждает по отражённому в вечности Парадизу; без счёта ушедших душ ищут на его камнях свои следы; голоса избранных до сих пор пробиваются и звучат сквозь время. Город, скроенный из фантастических имён и эпох, античных вилл и рассыпающихся трущоб, классической роскоши и постапокалиптических видений.