Необыкновенная жизнь обыкновенной капли - [3]
К нашему разговору прислушивались другие пассажиры, и я понял: мои капли могут заинтересовать не только специалиста.
Самолет стал набирать высоту.
Мы прошли над грозой... А я погрузился в воспоминания.
...Корпуса московского ЦАГИ на улице Радио, просторный двор около ангара, идут испытания огромной модели центробежной форсунки. Она теперь принадлежит истории техники, ее помнят поколения студентов и инженеров по фотографиям в учебниках и научных статьях. Эта непривычно громадная «царь-форсунка» со стеклянным дном позволяла заглянуть сзади в камеру закручивания и увидеть на ее оси миниатюрный смерч воздушного вихря. Конус распыливания — широкий веер капель бил из соплового отверстия чуть не до знаменитой кирпичной башенки с ветряком, венчающим здание ЦАГИ. И в этой плотной сетке капель, почти у моих ног, возникла радуга — символ будущего решения моей неотвязной задачи...
...В те дни все мы, небольшой молодой коллектив группы реактивной техники, ложились спать и вставали с вопросом: как измерить летящую каплю? Тогда я не знал, что имеется теория радуги, что в природе есть и другие оптические чудеса и существует целая наука — метеорологическая оптика.
«Однако,— резонно думал я,— должна же быть какая-то связь между диаметрами капель и структурой радуги, по ней я и определю каплю, только нужно получить радугу в лабораторной комнате».
В моем воображении радуга превратилась в радостно многоцветную триумфальную арку. За ней, думалось мне, открывается путь научных побед. Позднее я убедился, что к истине ведет отнюдь не прямой и не ровный путь.
***
Годы войны. Пространством над планетой еще владеют винтомоторные самолеты, но уже восходит эра реактивной авиации и ракетной техники. Поршневой двигатель и пропеллер начинают задыхаться на пределе своих возможностей. Быстрее, выше, дальше — война резко ускорила процесс создания новых летательных аппаратов. Мысль ученых, инженеров, изобретателей разных стран, созревшая уже в довоенные годы, теперь воплощалась в металл.
Истребитель на фронте еще летает со скоростью 500—550 км/ч, но уже самолеты с ТРД (турбореактивным двигателем) дают скачок скоростей до 700— 800 км/ч. Сообщения следуют одно за другим. Героический и трагический полет советского летчика Г. Я. Бахчиванджи на самолете конструкции А. Я. Березняка и А. М. Исаева, созданного под руководством В. Ф. Болховитинова,— первый полет аэроплана БИ1 с ЖРД (жидкостным реактивным двигателем).
Схватки реактивных аппаратов в воздухе Европы: английские «Метеоры» с ТРД догоняют и сбивают над Францией немецкие «летающие консервные банки» — ракеты ФАУ-1 с пульсирующим ВРД (воздушно-реактивным двигателем). Итальянцы испытали самолет «Капрони-Кампини». Появляются на нашем и западном фронтах немецкие «Мессершмитты-262» с ТРД. В сентябре 1944 года немцы стали применять баллистические ракеты ФАУ-2 с мощными ЖРД. Из 1402 ракет, выпущенных по Великобритании, 517 взорвались в Лондоне.
Новые, невиданные двигатели строились, опережая едва зарождающуюся науку о рабочих процессах, происходящих в них,— так часто случается при быстром развитии техники. Смелый бросок инженерной мысли опережает точный расчет, опирается на первых порах лишь на интуицию и приближенные рассуждения. Некоторые узлы двигателей — плоды «голой» эмпирики, долгой отработки без глубокого понимания природы сложных явлений, с которыми столкнулись инженеры.
Как известно, ТРД большинства самолетов — от многоместного пассажирского до истребителя-перехватчика — это большая труба-сигара со сложной начинкой (рис. 1). При полете через воздухозаборник в нее нагнетает воздух многоступенчатый входной компрессор. Он вращается на центральной оси и похож на детскую пирамидку с «кружочками» метрового диаметра, с лопатками и с «колпачком» пирамидки — передним коком-обтекателем.
Поток попадает в камеры сгорания — трубки, расположенные внутри венцом по окружности. В каждой камере— форсунка, разбрызгивающая топливо, источник энергии двигателя.
Его надо сжечь, но в необычных и сложных условиях ураганного газового потока. В камере химическая энергия топлива перейдет в тепло, нагреет и разгонит газ. Далее поток пройдет сквозь турбину, заставит ее вращаться, а вместе с нею и компрессор. И уж затем поток сжатых газов вырвется из выходного сопла двигателя, и по законам механики самолет или ракета получит импульс движения в противоположную сторону.
Камера сгорания реактивного двигателя — узел, обычно самый простой по конструкции и самый сложный по физике процессов. В камерах ТРД авиалайнеров нет сложных вращающихся деталей, подобных турбине или компрессору, которые работают в других частях двигателя. Здесь работает капля.
Как это происходит? Через цепь трансформаций, претерпеваемых жидкой частицей. Эту цепь составляют пять сложносочлененных звеньев: распыливание, полет роя капель, испарение, смешение паров с воздухом и горение. Цепочка сплетена из разнородных по природе процессов, подведомственных многим наукам (гидроаэромеханике, физике, химии) и называемых в технике элементарными процессами смесеобразования и горения. Анахронизмы, рожденные первым подходом к явлению, живучи: в действительности процессы не более элементарны, чем элементарные частицы в атомной физике, и термин выражал лишь уровень тогдашнего знания и мышления. В принципе смесеобразование одинаково для разных типов двигателей. Но наблюдать его легче и наглядней всего в камере сгорания ПВРД — прямоточного воздушно-реактивного двигателя.
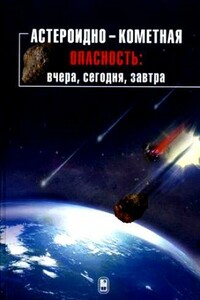
Проблема астероидно-кометной опасности, т. е. угрозы столкновения Земли с малыми телами Солнечной системы, осознается в наши дни как комплексная глобальная проблема, стоящая перед человечеством. В этой коллективной монографии впервые обобщены данные по всем аспектам проблемы. Рассмотрены современные представления о свойствах малых тел Солнечной системы и эволюции их ансамбля, проблемы обнаружения и мониторинга малых тел. Обсуждаются вопросы оценки уровня угрозы и возможных последствий падения тел на Землю, способы защиты и уменьшения ущерба, а также пути развития внутрироссийского и международного сотрудничества по этой глобальной проблеме.Книга рассчитана на широкий круг читателей.
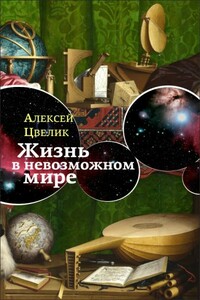
Доказала ли наука отсутствие Творца или, напротив, само ее существование свидетельствует о разумности устройства мироздания? Является ли наш разум случайностью или он — отражение того Разума, что правит Вселенной? Объективна ли красота? Существует ли наряду с миром явлений мир идей? Эти и многие другие вопросы обсуждает в своей книге известный физик-теоретик, работающий в Соединенных Штатах Америки.Научно-мировоззренческие эссе перемежаются в книге с личными воспоминаниями автора.Для широкого круга читателей.Современная наука вплотную подошла к пределу способностей человеческого мозга, и когнитивная пропасть между миром ученого и обществом мало когда была столь широка.
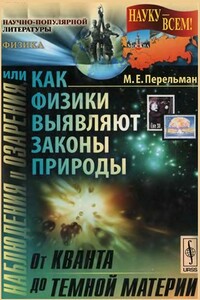
Все мы знакомы с открытиями, ставшими заметными вехами на пути понимания человеком законов окружающего мира: начиная с догадки Архимеда о величине силы, действующей на погруженное в жидкость тело, и заканчивая новейшими теориями скрытых размерностей пространства-времени.Но как были сделаны эти открытия? Почему именно в свое время? Почему именно теми, кого мы сейчас считаем первооткрывателями? И что делать тому, кто хочет не только понять, как устроено все вокруг, но и узнать, каким путем человечество пришло к современной картине мира? Книга, которую вы держите в руках, поможет прикоснуться к тайне гениальных прозрений.Рассказы «Наблюдения и озарения, или Как физики выявляют законы природы» написаны человеком неравнодушным, любящим и знающим физику, искренне восхищающимся ее красотой.
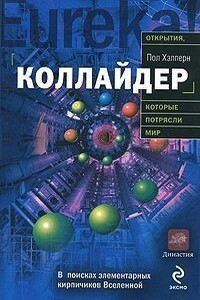
Осенью 2008 года газеты запестрели заголовками, сообщавшими» будто в недрах Большого адронного коллайдера (БАК), на котором физики собирались расщепить вещество на элементарные частицы, родятся микроскопические черные дыры, способные поглотить Землю.Какое значение имеет БАК для науки? Что ученые ищут? Почему физика, возможно, вскоре совершит один из величайших рывков в своей истории? Все эти вопросы обсуждаются в книге «Коллайдер». Автор, кроме всего прочего, доказывает, почему невозможно ни практически, ни теоретически, что на БАК появятся черные мини-дыры, которых все так боятся.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вернер Карл Гейзенберг (нем. Werner Heisenberg; 5 декабря 1901, Вюрцбург — 1 февраля 1976, Мюнхен) — немецкий физик, создатель «матричной квантовой механики Гейзенберга», лауреат нобелевской премии по физике (1932). Умер в 1976 году от рака.