Нэцкэ - [23]
Обычно историю самостоятельной эдоской школы начинают с творчества именно этого мастера 77. О жизни Мива сохранилось мало сведений. Он был уроженцем Эдо, прожил там всю жизнь, сначала был резчиком-любителем, но затем сделал это занятие своей специальностью. Есть упоминания о том, что он первым ввел в употребление резьбу нэцкэ из вишни и сандалового дерева (до этого общепринятым материалом был самшит); деревянные фигурки он инкрустировал слоновой костью или рогом.
В истории нэцкэ известны по крайней мере три мастера, подписывавшихся иероглифами «Мива». По всей вероятности, они принадлежали к одной школе или были связаны родственными узами: начертания подписей всех трех мастеров близки. Мива I работал во второй половине XVIII века, Мива II – приблизительно в начале XIX столетня, а Мива III – в первой половине XIX. На основе стилистического анализа, а также анализа какихан (графической фигуры, составленной из стилизованных иероглифов имени художника или их элементов) можно дифференцировать работы мастеров Мива трех поколений.
Хиромори Мива (Мива I) принадлежит нэцкэ, изображающая популярную синтоистскую богиню Амэ-но Удзумэ с маской лешего-тэнгу. Это небольшое произведение выполнено из дерева, детали инкрустированы слоновой костью. Все здесь, казалось бы, просто и понятно. Но ситуация может быть осмыслена двояко. С одной стороны, перед нами два божества, достаточно популярные в народных верованиях Японии. Их соединение обычно для изобразительного искусства периода Токугава. С другой стороны, показательны для городской культуры этого времени те акценты, которые Ми-ва расставляет в смысловой структуре произведения. Сюжет трактован юмористически, причем очевиден
недвусмысленный эротический подтекст. Такая интерпретация традиционных сюжетов и образов особенно широкое распространение получила в эдоской школе резьбы. «Легкомысленное веселье по поводу эротических намеков» 78 – такое качество порою называется как одна из составных эстетики городского искусства периода Токугава. Именно эта особенность вкусов горожан и обыгрывается Мива I в данной работе.
Не менее показательно для новой эдоской школы и появление в нэцкэ Мива I так называемых бытовых сюжетов, рассказывающих о нравах горожан, их занятиях и времяпрепровождении. Среди работ мастера появляются такие, как фигурка прачки, отбивающей вальком белье, изображения слепого за столом, резчика масок за работой, человека, приготовляющего мисо (густая масса из перебродивших бобов, употреблявшаяся в пищу), женщины, моющей голову, борцов сумо и т. д.
В трактовке этих сюжетов – по сути своей простых, незатейливых – ярко выступает такое важные для истории нэц-кэ качество, как стремление к созданию повествовательной композиции, к подробному описанию сцены, ситуации, к рассказу о забавном происшествии.
Нельзя сказать, что Мива I обращался только к таким – новаторским – сюжетам. Значительное место в его творчестве
занимают темы, характерные для более раннего периода. Среди его работ встречаются изображения даосского святого Гама-сэннин, иностранцев, архатов. Интересно, что в этих произведениях черты осакского стиля гораздо сильнее. Все это характеризует Мива 1 как мастера переходного периода. То же впечатление производит и художественное решение его нэцкэ. В частности, в нэцкэ Мива I «Удзумэ» осакский стиль сочетается с новыми качествами, развитие которых относится уже к XIX столетию. Работа выполнена из дерева, столь излюбленного мастерами XVIII века. В дальнейшем его значительно потеснит слоновая кость. Нэцкэ инкрустирована слоновой костью, что повсеместно войдет в употребление только в XIX веке. Трактовка фигуры Удзумэ построена на чисто пластических началах, выразительность ее достигается благодаря обобщенному экспрессивному силуэту. Декоративно-орнаментальное оформление скульптуры
скупо и лаконично. Однообразие в разработке ее поверхности устраняется сочно вырезанными складками одежд, создающими энергичный пластический ритм. Эти характеристики соответствуют стилю резьбы, который практиковался в XVIII веке, и, в первую очередь, в осакской школе. Подробная детализация здесь отсутствует. Но Мива I не упраздняет ее полностью, создавая сильно стилизованное изображение, как это часто делалось в конце XVII – середине XVIII века. Напротив, он не упускает ни одной
существенной детали, которая могла бы характеризовать изображение и со смысловой и с выразительной сторон. Таким образом, по сравнению с более ранними нэцкэ, работы Мива I (и эта, в частности) демонстрируют тенденцию к созданию детализированного изображения.
Итак, в творчестве Мива I соединяются традиции резьбы нэцкэ конца XVII-XVIII столетия и черты нового стиля, связанного уже полностью с Эдо. Мива развил старые осак-ские традиции, трансформировал их, подчиняясь духу и вкусам своего времени. Подобное промежуточное звено в эволюции нэцкэ делает переход от стиля XVIII века к художественному языку XIX плавным и закономерным. Во многих отношениях ситуация, сложившаяся в эдоской резьбе во второй половине XVIII столетия, аналогична тому, что происходило в это же время в осакской школе. Например, среди столичных мастеров еще преобладали, так же как в Осака, дилетанты, создававшие тем не менее первоклассные вещи. Многие из них были профессиональными резчиками масок – как, например, Хатигёку. Основная специальность этого мастера наложила отпечаток и на его нэцкэ, что выразилось в особом внимании к трактовке лица. Так, в его нэцкэ-катабори «Несущий куклу Дарумы» главное – не описание ситуации, а сама кукла, физиономия которой представляет собой театральную маску. В остальном Хатигёку придерживался традиций школы Мива, ставших основой дальнейшего развития эдоского стиля резьбы. К числу мастеров, развивавших традиции Мива I в начале XIX века, принадлежит Гэнрёсай Минкоку II. Круг сюжетов, размеры, художественные особенности его нэцкэ в целом те же, что и у Хиромори Мива. Но есть и отличия, которые становятся очевидными при сравнении. Например, работа Мива I «Прачка» и нэцкэ Минкоку II «Слепой массажист» имеют одинаковую композицию, постановку фигур. Похоже и объемное решение. Но моделировка формы у Минкоку II более дробна и мелка, ритм складок сложен и изощрен. Большее внимание уделено второстепенным деталям, что несколько снижает выразительность объема. Порою в творчестве Минкоку II встречаются композиционные решения, предвосхищающие поздние этапы развития эдоского стиля. Так, в его нэцкэ «Длиннорукий и Длинноногий» объемные детали приобретают декоративное звучание: причудливо переплетая элементы изображения, Минкоку II трактует его как сложный орнаментальный мотив. Для на
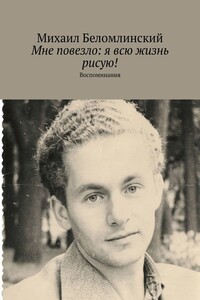
В первой части книги Беломлинский вспоминает своих соратников по питерской юности Иосифа Бродского и Сергея Довлатова, рассказывает о своей дружбе с Евгением Евстигнеевым, описывает встречи с Евгением Леоновым, Людмилой Гурченко, Михаилом Казаковым, Сергеем Юрским, Владимиром Высоцким, Беллой Ахмадуиной, Марселем Марсо, Робертом Дениро, Ивом Монтаном, Харви Ван Клиберном… Во второй части книги он рассказывает забавные «полиграфические истории», связанные с его работой в Росии и Америке.
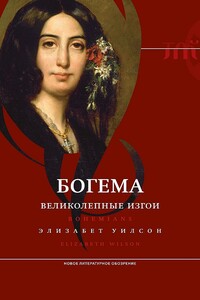
Художники парижского Монпарнаса, завсегдатаи кофеен в мюнхенском Швабинге, обитатели нью-йоркского Гринвич-Виллидж, тусовщики лондонского Сохо… В городской среде зародилось пестрое сообщество, на которое добропорядочный горожанин смотрел со смесью ужаса, отвращения, интереса и зависти. Это была богема, объединившая гениев и проходимцев, праздных мечтателей и неутомимых служителей муз, радикальных активистов и блистательных гедонистов. Богема явилась на мировую сцену в начале XIX века, но общество до сих пор не определилось, кого причислять к богеме и как к ней относиться.
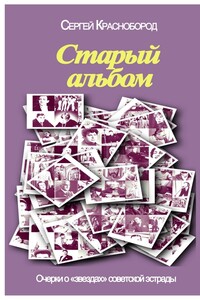
«Старый альбом» — название музыкальной программы, которая выходила в эфире Гомельского областного проводного радио еженедельно на протяжении двадцати лет — с 1996 по 2016 год. Эта книга — сборник литературно обработанных сценариев. Персонажи — «звезды» советской эстрады. Их выбор подсказан радиослушателями. Тексты компилятивные. Вся информация взята из отрытых источников. Эти биографические эссе будут любопытны всем, кто интересуется эстрадой советского периода.

В этой книге собраны костюмные биографии шести великих людей. Разделенные веками, все они были иконами стиля своего времени. Теперь мы можем увидеть их жизни сквозь призму моды и истории костюма — под новым, неожиданным углом. Ведь в одежде отражается и личность ее обладателя, и сама эпоха.Безмолвным деталям костюма, запечатленным на старых фотографиях и портретах, Ольга Хорошилова помогает обрести голос.Книга написана в том числе на основе неопубликованных архивных материалов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
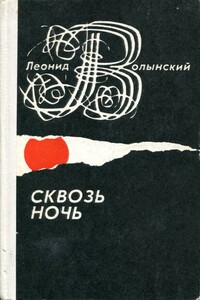
В эту книгу Леонида Волынского (1913—1969) вошли лучшие его широко известные произведения, посвященные событиям войны и послевоенной жизни. Рассказы о войне полны раздумий над судьбами людей, совсем юных, в жизнь которых ворвались грозные события. Леонид Волынский счастливо сочетал талант писателя с глубоким знанием и любовью к искусству. Его очерки, посвященные живописи и архитектуре, написаны красочно и пластично и представляют большой интерес для читателя.