Нэцкэ - [2]
Когда начали носить художественно оформленные брелоки-противовесы, точно не известно. С. Кэммэнн, автор наиболее полного труда о чжуй-цзы, предположительно относит возникновение этого обычая к династии Юань (1280-1368) и считает возможным заимствование его китайцами от монголов 3. Однако некоторые археологические находки, относящиеся к периоду Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) и периоду Шести династий (375-583), свидетельствует о более древнем происхождении такой пластики в Китае. В раскопках могильников в районе Чанша провинции Хунань рядом с буддийским храмом Бао Лунь-юань, в районе Чжао хуа провинции Сычуань и в могильниках Пянь-ба провинции Гуй-чжоу найдены небольшие (3-4 см) изображения животных, выполненные из камня или кости. Каждое из них имеет сквозное отверстие, которое можно использовать так же, как и в более поздних чжуй-цзы. Художественные характеристики этих произведений (обобщенность, нерасчлененность объема, компактность композиции, изображение деталей гравировкой) в значительной степени совпадают с таковыми у чжуй-цзы 4. Вполне вероятно, что здесь мы имеем дело с прототипом чжуй-цзы XIII-XIX веков. Более того, если фигурки из погребений действительно использовались как поясные брелоки, то приспособления такого типа, скорее всего, появились в Китае без постороннего влияния. Поэтому сомнительной оказывается и самая смелая «сибирская» версия происхождения нэцкэ, принадлежащая советскому археологу Э. В. Шавкунову. Миниатюрные скульптуры из различных пород камня, которые он называет нэцкэ, выполнены в XII веке, то есть в период существования чжурчжэньского государства Цзинь (1115-1234). Исходя из этой даты, советский исследователь считает, что найденные им «нэцкэ» из раскопок Шайгинского городища – древнейшие в мире. «В связи с этим, – пишет Шавкунов, – возникает вопрос: не могли ли японцы и, очевидно, монголы заимствовать нэцкэ у чжурчжэней, с которыми и у тех и у других существовали сравнительно длительные политические и культурно-экономические связи» 5. На это предположение следует ответить отрицательно.
С одной стороны, находки в ханьских могильниках по существу не отличаются от брелоков Шайгинского городища, с другой – чжуй-цзы XIII-XIX веков и ранние нэцкэ обнаруживают несомненную стилистическую близость. Скорее, сами чжурчжэни, так же как и японцы, находившиеся в сфере культурного влияния Китая, заимствовали оттуда и обычай ношения предметов типа нэцкэ и общий характер их художественного оформления. На связь нэцкэ и чжуй-цзы указывают также и японские названия поясных брелоков. «Нэцкэ» – не единственное их обозначение в Японии. Встречаются и такие, как «кэнсуй», «хайсуй», «хайси» и некоторые другие 6. Но именно эти названия – по-китайски соответственно «сюань-чуй», «пэй-чуй» и «пэй-цзы» – использовались в Китае наравне с самым распространенным термином «чжуй-цзы» 7. Некоторые ранние нэцкэ назывались
«карамоно» («китайская вещь») и «тобори» («китайская резьба»).
Связь нэцкэ с их китайским прототипом очевидна. Но роль чжуй-цзы в истории нэцкэ не следует преувеличивать: очень скоро в Японии на основе чжуй-цзы были выработаны оригинальные формы и приемы резьбы, введены новые сюжеты и переосмыслены старые. В Японии нэцкэ превратились в самостоятельное и высокоразвитое искусство, чего не произошло с китайскими чжуй-цзы.
До конца XVI века сведений об использовании японцами нэцкэ нет. Вещи, которые необходимо было иметь при себе, носили по-другому. В истории японского костюма существовало несколько способов прикреплять вещи к поясу. Самый древний предмет, который носили в Японии с помощью приспособления, сходного с нэцкэ, это упоминаемый еще в сочинении VIII века «Кодзики» («Записи о делах древности») хиути-йукуро – мешочек для кремня и огнива 8, крепившийся к эфесу меча. Обычай оказался стойким. В живописи периода Хэйан (794-1185) нередко встречаются изображения хиути-букуро (например, в иконе божества охоты Кариба-мёдзин XII в., хранящейся в храме Конгобу-дзи монастыря Коя-сан). В это время хиути-букуро по-прежнему привязывается к эфесу меча.
Мешочек для кремня и огнива можно видеть и на свитке На-гатака Тоса (конец XIII в.) «Моко сюрай экотоба» («Живописное повествование о монгольском вторжении») у человека, докладывающего о появлении вражеского флота. Свиток датируется 1293 годом. В XIII веке хиути-букуро стали использовать как кошелек, портативную аптечку, но носили его так же, как и раньше.
Параллельно с этим распространены были и другие приспособления. Прежде всего это оби-хасами, которые, как сказано в сочинении 1821-1841 годов «Кинонэ ёру банаси» («Разговоры в ночь Крысы»), были предшественниками нэцкэ 9. Оби-хасами – фигурно оформленный крючок; верхний загиб его зацеплялся за пояс, а к выступу внизу привязывались различные предметы. Аналогичные вещи дошли до нас от минского времени в Китае. Особенно часто выполнялись они из нефрита – материала, постоянно используемого в прямом прототипе нэцкэ – чжуй-цзы. Форма оби-хасами не привилась, поскольку такой способ был небезопасен: при быстром движении, сгибании корпуса легко можно было уколоться длинным и острым крючком.
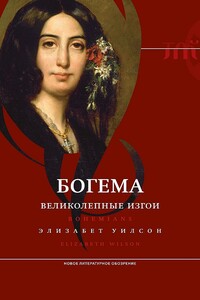
Художники парижского Монпарнаса, завсегдатаи кофеен в мюнхенском Швабинге, обитатели нью-йоркского Гринвич-Виллидж, тусовщики лондонского Сохо… В городской среде зародилось пестрое сообщество, на которое добропорядочный горожанин смотрел со смесью ужаса, отвращения, интереса и зависти. Это была богема, объединившая гениев и проходимцев, праздных мечтателей и неутомимых служителей муз, радикальных активистов и блистательных гедонистов. Богема явилась на мировую сцену в начале XIX века, но общество до сих пор не определилось, кого причислять к богеме и как к ней относиться.
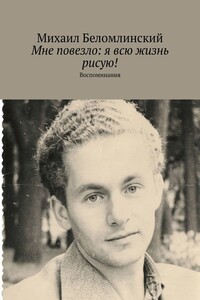
В первой части книги Беломлинский вспоминает своих соратников по питерской юности Иосифа Бродского и Сергея Довлатова, рассказывает о своей дружбе с Евгением Евстигнеевым, описывает встречи с Евгением Леоновым, Людмилой Гурченко, Михаилом Казаковым, Сергеем Юрским, Владимиром Высоцким, Беллой Ахмадуиной, Марселем Марсо, Робертом Дениро, Ивом Монтаном, Харви Ван Клиберном… Во второй части книги он рассказывает забавные «полиграфические истории», связанные с его работой в Росии и Америке.

Автор книги — художник-миниатюрист, много лет проработавший в мстерском художественном промысле. С подлинной заинтересованностью он рассказывает о процессе становления мстерской лаковой живописи на папье-маше, об источниках и сегодняшнем дне этого искусства. В книге содержатся описания характерных приемов местного письма, раскрываются последовательно все этапы работы над миниатюрой, характеризуется учебный процесс подготовки будущего мастера. Близко знающий многих живописцев, автор создает их убедительные, написанные взволнованной рукой портреты и показывает основные особенности их творчества.

Билл Каннингем — легенда стрит-фотографии и один из символов Нью-Йорка. В этой автобиографической книге он рассказывает о своих первых шагах в городе свободы и гламура, о Золотом веке высокой моды и о пути к высотам модного олимпа.
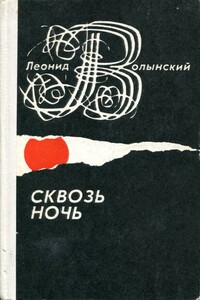
В эту книгу Леонида Волынского (1913—1969) вошли лучшие его широко известные произведения, посвященные событиям войны и послевоенной жизни. Рассказы о войне полны раздумий над судьбами людей, совсем юных, в жизнь которых ворвались грозные события. Леонид Волынский счастливо сочетал талант писателя с глубоким знанием и любовью к искусству. Его очерки, посвященные живописи и архитектуре, написаны красочно и пластично и представляют большой интерес для читателя.
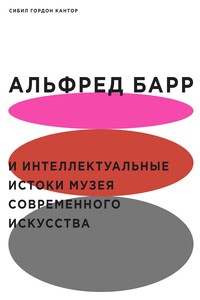
Альфред Барр (1902–1981), основатель и первый директор Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA), сумел обуздать стихийное бедствие, которым оказалось искусство ХХ века. В этой книге — частично интеллектуальной биографии, частично институциональной истории — Сибил Гордон Кантор (1927–2013) рассказывает историю расцвета современного искусства в Америке и человека, ответственного за его триумф. Основываясь на интервью с современниками Барра, а также на его обширной переписке, Кантор рисует яркие портреты Джери Эбботта, Кэтрин Дрейер, Генри-Рассела Хичкока, Филипа Джонсона, Линкольна Кирстайна, Агнес Монган, Исраэля Б. Неймана, Пола Сакса.