Нэцкэ - [19]
Четвертый этап, в целом совпадающий с периодом Мэйдзи (1868-1912), – пора упадка резьбы нэцкэ. Определяющей чертой в художественной жизни периода Мэйдзи было увлечение европейским искусством и изучение его традиций. В известной мере, хотя и не так явно, как, например, в живописи, эта тенденция сказалась и в миниатюрной скульптуре. Сами же нэцкэ в этот период постепенно утрачивают ряд специфических черт, связанных с функциональной их стороной, и превращаются зачастую в аналог станковой миниатюрной скульптуры – окимоно. При всем том техническое мастерство в их оформлении не только не снижается, но, наоборот, совершенствуется 67.
Ранние нэцкэ (конец XVI-XVII в.) не дошли до наших дней. И хотя попытки таких и даже более ранних датировок встречаются 68, они, по сути дела, безосновательны.
Предыстория нэцкэ может быть восстановлена лишь по косвенным данным: прототипам ранних нэцкэ – чжуй-цзы я повторяющим их форму японским произведениям. Ценнейшим источником сведений о ранних нэцкэ является сочинение Инаба Мититацу «Сокэн кисё» («Рассуждения об оправе мечей»), вышедшее в Осака в 1781 году. «Сокэн кисё» состоит из семи томов. Первые пять – о художественной оправе холодного оружия, шестой – о тисненой коже. В последнем томе рассказывается о нэцкэ и одзимэ (бусинка, скрепляющая шнурки инро и регулирующая их длину), причем называются имена пятидесяти трех крупнейших резчиков того времени. Текст сопровождается иллюстрациями их работ. Также даны прорисовки основных типов нэцкэ, среди которых наибольший интерес представляют так называемые карамоно (дословно – «китайская вещь») и говори («китайская резьба»).
Такие названия адресовались произведениям двух типов. Во-первых, это китайские изделия – резные печати, миниатюрные скульптуры и чжуй-цзы; во-вторых, выполненные под их влиянием японские резные изображения, в том числе нэц-кэ. Эти две группы обнаруживают несомненную стилистическую близость. И чжуй-цзы и нэцкэ-карамоно отличаются обобщенной трактовкой формы, стилизацией, доходящей порой до полного превращения мотива в декоративный орнамент. Чжуй-цзы и нэцкэ используют также и одинаковые сюжеты: тыква-горлянка, Гуань Юй, даосские святые, мифологические существа (чаще всего взятые из «Каталога гор и морей») и другие образы, непосредственно связанные с китайскими представлениями.
Таким образом, о ранних нэцкэ кое-что известно, но эти сведения во многом основываются на догадках. Произведений, точно датируемых XVII веком, мы не знаем. Все же рисунки «Сокэн кисё» дают возможность выяснить тип нэцкэ, распространенный в XVII – начале XVIII столетия, и ясно указывают на происхождение нэцкэ от китайских чжуй-цзы.
До нас дошли и имена некоторых резчиков второй половины XVII века: Огата Корина (1658-1716), прославившегося в области декоративной живописи, известного керамиста Но-номура Нинсэя (1596-1660), а также Ноногути Рюхо (1595- 1669), которого один из крупнейших исследователей нэцкэ -Ф. Майнерцаген – считает первым профессиональным резчиком .
XVIII век дает довольно много произведений и имен мастеров, известных и из литературы (многие резчики не подписывали своих изделий), и из подписей на самих нэцкэ. Большинство мастеров первой половины – середины XVIII века, чьи имена нам известны, – это жители Киото, Нагоя и в особенности Осака. Столичная школа еще не сформировалась окончательно: резчики, работавшие в Эдо, как правило, были выходцами из Осака. Стиль школы Осака в XVIII столетии господствовал в резьбе нэцкэ.
Ведущая роль Осака в культурной жизни Японии этого времени закономерна. Уже в XVI веке Осака являлся одним из наиболее развитых экономических и культурных центров Японии. В правление Тоётоми Хидэёси (1582-1598) в Осака расположилась ставка сёгуна и именно здесь особенно интенсивно стали складываться черты новой городской культуры. Здесь было сосредоточено наиболее богатое и активное купечество, противостоящее воинскому сословию не только в экономическом отношении, но и не принимавшее сложившейся модели старой культуры. Именно в Осака расцветает впервые то направление, которое в исторической ретроспективе стало определяющим для облика всей культуры позд-нефеодальной Японии. Достаточно вспомнить такие имена, как Тикамацу, Басё, Коэцу, Корин и другие, чтобы стала ясна ведущая роль этого культурного центра в XVIII веке. Даже моды, господствовавшие среди купцов и ремесленников Осака, распространились на другие районы, вплоть до Эдо, с которым Осака на протяжении всего периода Току-гава имел прочные коммерческие и культурные связи. XVIII век в истории нэцкэ предстает как первый период, о котором можно судить по сохранившимся произведениям, и в то же время как период несомненного расцвета миниатюрной скульптуры.
Крупнейшим мастером второй половины XVIII века был осакский резчик Ёсимура Сюдзан (Сюдзан I). Он никогда не подписывал свои нэцкэ. Так же поступали и многие другие мастера середины – второй половины XVIII столетия, резавшие нэцкэ в часы досуга. У Ёсимура для этого были веские основания: он был признанным живописцем одной из ведущих школ (Кано), был удостоен почетного титула «хо-гэн» 70. Изготовление же нэцкэ в то время считалось ремеслом, не достойным профессионального живописца, и вряд ли сам Ёсимура считал эти «поделки» заслуживающими носить его подпись. Так или иначе, все нэцкэ Сюдзана – без подписи. Одни приписываются ему по традиции, другие – вследствие сходства с рисунками из «Сокэн кисё», в котором Сю-кэй Мицусада – сын Ёсимура Сюдзана – изобразил тринадцать нэцкэ своего отца. Эти рисунки являются главным материалом для атрибуции работ Сюдзана. Таких работ немного. С достаточным основанием Сюдзану могут быть приписаны десять-пятнадцать скульптур, хранящихся в разных государственных и частных коллекциях. Их сближает единство стилистических характеристик.
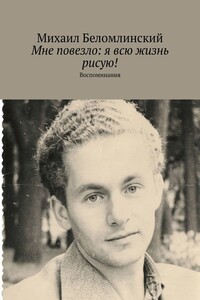
В первой части книги Беломлинский вспоминает своих соратников по питерской юности Иосифа Бродского и Сергея Довлатова, рассказывает о своей дружбе с Евгением Евстигнеевым, описывает встречи с Евгением Леоновым, Людмилой Гурченко, Михаилом Казаковым, Сергеем Юрским, Владимиром Высоцким, Беллой Ахмадуиной, Марселем Марсо, Робертом Дениро, Ивом Монтаном, Харви Ван Клиберном… Во второй части книги он рассказывает забавные «полиграфические истории», связанные с его работой в Росии и Америке.
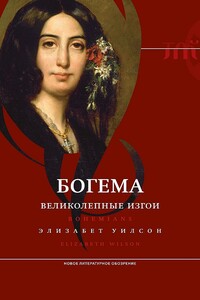
Художники парижского Монпарнаса, завсегдатаи кофеен в мюнхенском Швабинге, обитатели нью-йоркского Гринвич-Виллидж, тусовщики лондонского Сохо… В городской среде зародилось пестрое сообщество, на которое добропорядочный горожанин смотрел со смесью ужаса, отвращения, интереса и зависти. Это была богема, объединившая гениев и проходимцев, праздных мечтателей и неутомимых служителей муз, радикальных активистов и блистательных гедонистов. Богема явилась на мировую сцену в начале XIX века, но общество до сих пор не определилось, кого причислять к богеме и как к ней относиться.
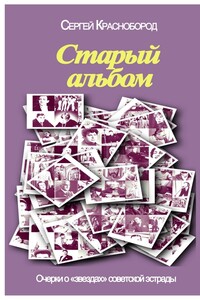
«Старый альбом» — название музыкальной программы, которая выходила в эфире Гомельского областного проводного радио еженедельно на протяжении двадцати лет — с 1996 по 2016 год. Эта книга — сборник литературно обработанных сценариев. Персонажи — «звезды» советской эстрады. Их выбор подсказан радиослушателями. Тексты компилятивные. Вся информация взята из отрытых источников. Эти биографические эссе будут любопытны всем, кто интересуется эстрадой советского периода.

В этой книге собраны костюмные биографии шести великих людей. Разделенные веками, все они были иконами стиля своего времени. Теперь мы можем увидеть их жизни сквозь призму моды и истории костюма — под новым, неожиданным углом. Ведь в одежде отражается и личность ее обладателя, и сама эпоха.Безмолвным деталям костюма, запечатленным на старых фотографиях и портретах, Ольга Хорошилова помогает обрести голос.Книга написана в том числе на основе неопубликованных архивных материалов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
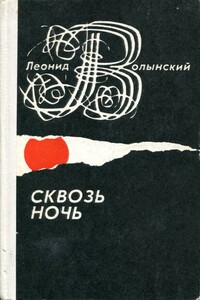
В эту книгу Леонида Волынского (1913—1969) вошли лучшие его широко известные произведения, посвященные событиям войны и послевоенной жизни. Рассказы о войне полны раздумий над судьбами людей, совсем юных, в жизнь которых ворвались грозные события. Леонид Волынский счастливо сочетал талант писателя с глубоким знанием и любовью к искусству. Его очерки, посвященные живописи и архитектуре, написаны красочно и пластично и представляют большой интерес для читателя.