Нэцкэ - [12]
«кимон» – «вратах демонов», то есть с представлением о том, что северо-восточное направление, называемое «уситора» («Быка и Тигра»), является несчастливым. Это представление, так же как и связанная с ним церемония «кимон-ёкэ» («защита от врат демонов»), было известно и повлияло на иконографию они в искусстве периода Токугава. До XVII века демонов изображали по-разному. Но в период Токугава их иконография постепенно унифицируется. Демонов стали изображать как человекообразное существо с бычьими рогами, острыми выступающими клыками, трех- или четырехпалыми, со ртом, раздвинутым до ушей, и в набедренной повязке из тигровой шкуры 49.
Под воздействием буддийских и отчасти даосских представлений они считались также обитателями ада 50, бесами-мучителями, которые могли появляться и в мире людей, вселяться в их тела и всячески вредить им. На формирование образа демонов оказало влияние и синтоистское учение о моно-но кэ – духе умершего. Этим термином, идентичным «они», чаще всего обозначали злого духа. Таким образом, народное понимание образа они в народных верованиях Японии складывалось на основе многих традиций. Они воспринимался как обитатель потустороннего мира, носитель зла и его воплощение, тем не менее нередко его изображали в неподобающих ситуациях – например, во время ритуала скандирования имени будды Амиды (нэмбуцу). Особенно часто такая иконографическая схема, получившая название «они-но нэмбуцу» – «молитва беса», использовалась в японской народной печатной картине – оцуэ и нэцкэ. Тема «демон и буддизм», то есть «зло и истинное учение», по-разному решалась в миниатюрной скульптуре. Непосредственным ее воплощением были нэцкэ, изображающие борьбу архата и демона. Но у многих, особенно эдоских, мастеров встречаются такие композиции, как пострижение демона в монахи (демону бреют голову и спиливают рога), демон перед зеркалом (рассматривает рога, собираясь с ними расстаться) и т. п. В подобной интерпретации ясно видно стремление к десакрализации, осмеянию того, что, по общепринятому мнению, страшно. Это свидетельствует о существовании в городской культуре периода Токугава особого пласта, по типу аналогичного «карнавальной культуре» европейского средневековья. Такой подход часто встречается и в других сюжетах нэцкэ. В подобном ключе трактуется, например, образ Эмма-о – владыки ада, изображаемого в нэцкэ вместе с демонами. Они прислуживают ему, развлекают, играют с ним в различные игры. Эмма-о с удовольствием пьет сакэ, восхищенно созерцает свиток с изображением красавицы, играет в азартные игры и т. д. Смысл ясен: владыка ада и тот не чужд человеческих слабостей.
В ином качестве выступают демоны в композициях, связанных с «они-яраи» – церемонией, совершаемой в последнюю ночь старого года, когда люди изгоняют из своих домов злых духов. Церемония имеет китайские корни 51, но в Японии была заимствована еще в правление императора Момму (697-707). Первоначально она совершалась только при дворе: это был красочный ритуал с большим количеством участников.
Уже к XVII веку этот обычай несколько видоизменился и стал всеобщим. Церемония проходила так: по дому разбрасывали жареные бобы, которые назывались «ониутимамэ» («бобы, побивающие демонов»), – считалось, что демоны не выносят их прикосновения. Далее, скандируя: «Счастье в дом, черти – вон», – выметали бобы из жилища, и оно считалось освобожденным от присутствия нечистой силы. После этого на притолоку двери вешали ветку вечнозеленого расте
ния хиираги и голову иваси: считалось, что они не позволяют демонам проникнуть в дом.
Различные эпизоды из этой церемонии иллюстрируются в нэцкэ: демоны прячутся от «ониутимамэ» или убегают, эк-зорсист разбрасывает бобы и т. д. Отдельные изображения иваси и блюда с бобами также, по-видимому, связаны с церемонией «они-яраи».
Тэнгу (дословно – «небесная собака») – персонаж, занимавший видное место в народных верованиях японцев. Само название имеется в древних китайских сочинениях. В работе Сыма Цяня (145-86 гг. до н. э.) «Ши цзы» («Исторические записи»), относящейся к началу периода Хань, слово «тэнгу» используется для обозначения метеорита; в сочинении «Шань хай цзин» («Каталог гор и морей») тэнгу предстает в виде фантастического животного. В Японии тэнгу впервые упоминается в «Нихонсёки» 52 («Анналы Японии», 720 г.) в главе
от девятого года правления императора Дзёмэя (637 г.), где «тэнгу» переводится с китайского на японский язык как «небесная лисица». В дальнейшем облик и характеристика тэн-гу изменялись и усложнялись под влиянием различных религий, в первую очередь буддизма. В период Токугава тэнгу воспринимались как духи, обитающие глубоко в горах, способные перевоплощаться (нередко они принимали облик мо-нахов-ямабуси), но наибольшее распространение получили два варианта изображения тэнгу: в виде птицы или человекообразного существа с крыльями и большим клювом и в виде краснолицего монстра с длинным носом. Первый вариант – так называемый карасу-тэнгу (тэнгу-во-рон), по-видимому, связан с древним японским поверьем о том, что души умерших воплощаются в птиц, обитающих на верхушках деревьев, которые растут на священных горах. В нэцкэ карасу-тэнгу чаще всего появляются в композиции «тэнгу-но тамаго» («яйцо тэнгу»), где тэнгу изображен вылупляющимся из яйца.
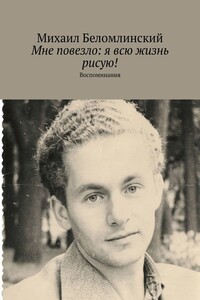
В первой части книги Беломлинский вспоминает своих соратников по питерской юности Иосифа Бродского и Сергея Довлатова, рассказывает о своей дружбе с Евгением Евстигнеевым, описывает встречи с Евгением Леоновым, Людмилой Гурченко, Михаилом Казаковым, Сергеем Юрским, Владимиром Высоцким, Беллой Ахмадуиной, Марселем Марсо, Робертом Дениро, Ивом Монтаном, Харви Ван Клиберном… Во второй части книги он рассказывает забавные «полиграфические истории», связанные с его работой в Росии и Америке.
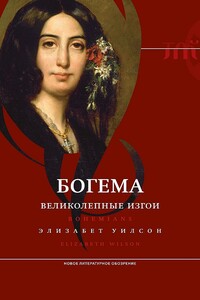
Художники парижского Монпарнаса, завсегдатаи кофеен в мюнхенском Швабинге, обитатели нью-йоркского Гринвич-Виллидж, тусовщики лондонского Сохо… В городской среде зародилось пестрое сообщество, на которое добропорядочный горожанин смотрел со смесью ужаса, отвращения, интереса и зависти. Это была богема, объединившая гениев и проходимцев, праздных мечтателей и неутомимых служителей муз, радикальных активистов и блистательных гедонистов. Богема явилась на мировую сцену в начале XIX века, но общество до сих пор не определилось, кого причислять к богеме и как к ней относиться.
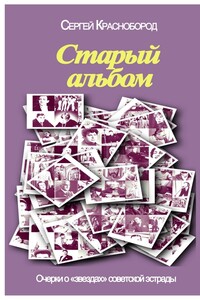
«Старый альбом» — название музыкальной программы, которая выходила в эфире Гомельского областного проводного радио еженедельно на протяжении двадцати лет — с 1996 по 2016 год. Эта книга — сборник литературно обработанных сценариев. Персонажи — «звезды» советской эстрады. Их выбор подсказан радиослушателями. Тексты компилятивные. Вся информация взята из отрытых источников. Эти биографические эссе будут любопытны всем, кто интересуется эстрадой советского периода.

В этой книге собраны костюмные биографии шести великих людей. Разделенные веками, все они были иконами стиля своего времени. Теперь мы можем увидеть их жизни сквозь призму моды и истории костюма — под новым, неожиданным углом. Ведь в одежде отражается и личность ее обладателя, и сама эпоха.Безмолвным деталям костюма, запечатленным на старых фотографиях и портретах, Ольга Хорошилова помогает обрести голос.Книга написана в том числе на основе неопубликованных архивных материалов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
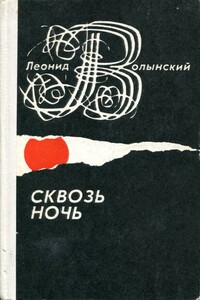
В эту книгу Леонида Волынского (1913—1969) вошли лучшие его широко известные произведения, посвященные событиям войны и послевоенной жизни. Рассказы о войне полны раздумий над судьбами людей, совсем юных, в жизнь которых ворвались грозные события. Леонид Волынский счастливо сочетал талант писателя с глубоким знанием и любовью к искусству. Его очерки, посвященные живописи и архитектуре, написаны красочно и пластично и представляют большой интерес для читателя.