Не-места. Введение в антропологию гипермодерна - [23]
Еще в большей степени, чем о Бодлере (довольствующемся стремлением к путешествию), здесь уместно вспомнить о Шатобриане, который беспрестанно путешествует и обладает даром видения – однако видит лишь гибель цивилизаций, разрушенные и поблекшие пейзажи, сиявшие в давно ушедшие времена, обманчивые следы обвалившихся монументов. Лакедемония, исчезнувшая навсегда, Греция, лежащая в руинах под игом захватчиков, не ведающих о ее древних богатствах, – увиденное навевает «случайному» путнику образы утраченной истории и утекающей жизни, но скорее само движение, свойственное путешествию, манит и увлекает его. У этого движения нет иной цели, кроме себя самого – если не считать записей, фактически фиксирующих и воспроизводящих движущийся образ.
В первом предисловии к «Путешествию из Парижа в Иерусалим» сказано все[43]. Шатобриан отвергает предположение о том, что путешествие было предпринято с целью описать его, но признает, что в нем он искал «образы» для своих «Мучеников»[44]. Он не претендует на научность своих описаний: «Я не иду по следам Шарденов, Таверньеров, Шандлеров, Манго-Парков, Гумбольдтов…» (с 1.9). В некотором смысле это произведение, не имеющее четко высказанного намерения, удовлетворяет противоречивому стремлению рассказывать только о своем авторе, при этом ничего никому о нем не говоря: «[читатели] везде увидят больше человека, нежели писателя – я всегда говорю о себе; и говорил ничего не опасаясь, ибо не намерен был издавать в свет сих записок» (с. 20). Панорамы, облюбованные посетителем и описываемые автором, разумеется, включают в себя серию достопримечательностей («гора Гиметт на востоке, гора Пентеликон на севере, Парнас на северо-западе…»), но созерцание значимым образом завершается в момент, когда, обращаясь само на себя в качестве объекта, оно распадается на неясное множество взглядов в прошлое и будущее:
«На сию картину Аттики, на сие зрелище мною рассматриваемое, смотрели люди, коих глаза уже две тысячи лет закрыты. Я также закрою глаза в свое время: другие люди, подобно мне, блуждающие, придут также размышлять на сих развалинах» (с. 153).
Идеальная точка обзора – сочетающая дистанцию с эффектом движения – расположена на палубе удаляющегося корабля. Описания скрывающейся из виду земли достаточно для того, чтобы вызвать образ пассажира, все еще ищущего ее глазами: еще немного, и от нее остается лишь тень, отзвук, слабый шум. Это упразднение места и является основным наполнением путешествия, конечной позицией путешественника:
По мере отдаления нашего колонны Суниума казались еще прекраснее: располагаясь выше волн, они казались стоящими на голубо-небесном своде по причине чрезмерной их белизны и ясности ночи. Мы были уже довольно далеко от мыса и вместе с тем слышали удары волн о скалу, шум ветра в можжевеловых кустарниках и песни кузнечиков, которые ныне одни только живут в развалинах храма: это был последний шум, который я слышал на земле Греции (с. 190).
Что бы он ни говорил («Я, может быть, буду последним французом, отправляющимся в Святую Землю с идеями, чувствами и целями пилигрима»), с. 133), Шатобриан совершает отнюдь не паломничество. Конечная точка, к которой ведет паломнический путь, по определению перенасыщена смыслом. Смысл, за которым к ней идут, одинаково ценен и вчера, и сегодня для любого паломника. Путь к ней, состоящий из переходов и примечательных мест, вместе составляет место «дороги в одну сторону», или «пространство» в определении Мишеля де Серто. Альфонс Дюпрон[45] отмечает, что путешествие по морю само по себе имеет значение инициации:
Так, на дорогах паломничества, как только дело доходит до переправы по морю, возникает разрыв, словно бы приближающий героику к обычной жизни. Земля и вода совершенно не равны в восприятии человека, и особенно при морских путешествиях становится очевиден этот разрыв, создаваемый тайной воды. За очевидными фактами тут кроется более глубинная реальность, которую интуитивно угадали несколько деятелей Церкви начала XII века с их идеей о совершении ритуала перехода с помощью путешествия по морю (с. 31).
В случае Шатобриана речь идет совсем о другом; его конечной целью являлся не Иерусалим, но Испания, в которой его ждала любовница («Путешествие…», однако, не является исповедью: Шатобриан демонстрирует благоразумие и «сохраняет позу»); и святые места вдохновляют его меньше всего. О них уже многое было сказано.
…Здесь я ощущаю смущение. Следует ли мне описать точную картину святых мест? Но тогда я только лишь скажу то, что было сказано до меня: ни один сюжет не был бы столь неизвестным современным читателям, при этом будучи абсолютно исчерпанным. Должен ли я умолчать о них? Но не устраню ли я тем самым важнейшую часть моего путешествия, его конечную точку и цель? (с. 308).
Несомненно, в подобных местах христианин, которым он хочет быть, не может воспевать беспощадное отрицание всего сущего столь же правдоподобно, как он делает это в Аттике или Лакедемонии. Раз так, то он пишет с усердием, демонстрируя недюжинную эрудицию и цитируя целыми страницами путешественников и поэтов вроде Мильтона или Тассо. Он становится уклончивым, и на сей раз обилие слова и документальных свидетельств позволяет определить святые места Шатобриана в качестве не-места, весьма сходного с не-местами, создаваемыми слоганами и иллюстрациями туристических буклетов и путеводителей. И если мы на секунду вернемся к определению современности как к желанному сосуществованию двух различных миров (бодлеровская современность), то увидим, что опыт не-места как отсылки к себе самому, одновременное дистанцирование от зрителя и зрелища в том или ином виде могут присутствовать здесь. Старобинский, комментируя первое стихотворение «Парижских картин», настаивает на сосуществовании двух миров, на смешении труб и колоколен, но он отмечает и особое положение поэта, который желает смотреть на вещи сверху и издалека, не принадлежа ни к миру религии, ни к миру работы. Такая позиция, по Старобинскому, является двойным аспектом современности: «потеря субъекта в толпе – или, напротив, абсолютная власть, отвоеванная индивидуальным сознанием»

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Китай все чаще упоминается в новостях, разговорах и анекдотах — интерес к стране растет с каждым днем. Какова же она, Поднебесная XXI века? Каковы особенности психологии и поведения ее жителей? Какими должны быть этика и тактика построения успешных взаимоотношений? Что делать, если вы в Китае или если китаец — ваш гость?Новая книга Виктора Ульяненко, специалиста по Китаю с более чем двадцатилетним стажем, продолжает и развивает тему Поднебесной, которой посвящены и предыдущие произведения автора («Китайская цивилизация как она есть» и «Шокирующий Китай»).

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Книга стала итогом ряда междисциплинарных исследований, объединенных концепцией «собственной логики городов», которая предлагает альтернативу устоявшейся традиции рассматривать город преимущественно как зеркало социальных процессов. «Собственная логика городов» – это подход, демонстрирующий, как возможно сфокусироваться на своеобразии и гетерогенности отдельных городов, для того чтобы устанавливать специфические закономерности, связанные с отличиями одного города от другого, опираясь на собственную «логику» каждого из них.

Внутри устоявшегося языка описания, которым пользуются современные урбанисты и социологи, сформировались определенные модели мышления о городе – иными словами, концептуализации. Сегодня понятия, составляющие их фундамент, и сами модели мышления переживают период смысловой «инфляции» и остро нуждаются в серьезной рефлексии. Эта книга о таких концептуализациях: об истории их возникновения и противостояния, о философских основаниях и попытках воплотить их в жизнь. В своем исследовании Виктор Вахштайн показывает, как идеи «локального сообщества», «городской повседневности», «территориального контроля», «общественного пространства» и «социальной сегрегации» закреплялись в языке социологов, архитекторов и планировщиков, как из категорий познания превращались в инструменты управления.
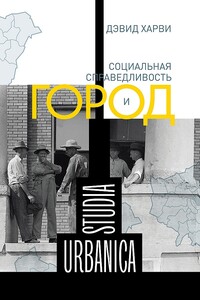
Перед читателем одна из классических работ Д. Харви, авторитетнейшего англо-американского географа, одного из основоположников «радикальной географии», лауреата Премии Вотрена Люда (1995), которую считают Нобелевской премией по географии. Книга представляет собой редкий пример не просто экономического, но политэкономического исследования оснований и особенностей городского развития. И хотя автор опирается на анализ процессов, имевших место в США и Западной Европе в 1960–1970-х годах XX века, его наблюдения полувековой давности более чем актуальны для ситуации сегодняшней России.

Город-сад – романтизированная картина западного образа жизни в пригородных поселках с живописными улочками и рядами утопающих в зелени коттеджей с ухоженными фасадами, рядом с полями и заливными лугами. На фоне советской действительности – бараков или двухэтажных деревянных полусгнивших построек 1930-х годов, хрущевских монотонных индустриально-панельных пятиэтажек 1950–1960-х годов – этот образ, почти запретный в советский период, будил фантазию и порождал мечты. Почему в СССР с началом индустриализации столь популярная до этого идея города-сада была официально отвергнута? Почему пришедшая ей на смену доктрина советского рабочего поселка практически оказалась воплощенной в вид барачных коммуналок для 85 % населения, точно таких же коммуналок в двухэтажных деревянных домах для 10–12 % руководящих работников среднего уровня, трудившихся на градообразующих предприятиях, крохотных обособленных коттеджных поселочков, охраняемых НКВД, для узкого круга партийно-советской элиты? Почему советская градостроительная политика, вместо того чтобы обеспечивать комфорт повседневной жизни строителей коммунизма, использовалась как средство компактного расселения трудо-бытовых коллективов? А жилище оказалось превращенным в инструмент управления людьми – в рычаг установления репрессивного социального и политического порядка? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в этой книге.