Не-места. Введение в антропологию гипермодерна - [14]
Мы будем в дальнейшем использовать термин «антропологического места» в отношении этой конкретной и символической конструкции пространства, которое само не размещает в себе противоречия и перипетии общественной жизни, но является точкой референции для тех из них, которые с ним связываются, каким бы скромным и ограниченным оно ни было.
Это вдобавок связано с тем, что любая антропология является антропологией антропологий других, и с тем, что место – антропологическое место – одновременно является смыслоорганизующим принципом для тех, кто его населяет, и принципом, обеспечивающим познаваемость для наблюдателя. Антропологическое место разномасштабно. Кабильский дом, разделенный на теневую и светлую стороны, мужскую и женскую части; дома народов мина или эуэ, которые имеют внутренние legba, предохраняющие спящего от его собственных непроизвольных движений, и legba пороговые, защищающие его от агрессии извне; дуалистические организации, отражающиеся на земле в форме очень материальных и видимых границ и управляющие прямым или косвенным способом альянсами, обменами, играми, религиями; деревни эбрие и атье, чье пространственное деление на три части является организующим принципом жизни родов и возрастных групп, – это лишь некоторые из мест, анализ которых имеет смысл, поскольку они сами были наделены смыслом, и каждое новое взаимодействие с ними, каждое ритуальное повторение подтверждает и подкрепляет потребность в нем.
Эти места обладают как минимум тремя общими чертами. Они стремятся быть – люди стремятся сделать их – местами идентичности, отношений и истории. План дома, правила проживания, кварталы в деревне, алтари, общественные места, разграничение земли соответствуют в жизни каждого совокупности возможностей, предписаний и запретов, содержание которых и социально, и пространственно. Родиться – значит родиться в определенном месте, быть связанным с конкретной землей. В этом смысле место рождения составляет основу индивидуальной идентичности; в Африке ребенку, родившемуся вне деревни, дается особое имя, связанное с элементом пейзажа, ставшим свидетелем его рождения. Место рождения подчиняется закону «собственности» (и имени собственного), о котором говорит Мишель де Серто[18]. Со своей стороны, Луи Марен заимствует у Фюретьера аристотелевское определение места («Первичная и неподвижная поверхность тела, окружающего другое тело, или, говоря яснее, пространство, в котором расположено тело)[19] и цитирует приводимый им пример: «Каждое тело занимает свое место». Однако это единичное и исключительное расположение в большей степени является расположением мертвеца в могиле, чем рождающегося или живущего тела. В порядке рождения и жизни собственное место, как и абсолютная индивидуальность, сложно в определении и осмыслении. Мишель де Серто считает местом «порядок (каким бы он ни был), в соответствие с которым элементы распределяются в плане отношений сосуществования», и исключая, что два предмета занимают одно и то же «место», и признавая, что каждый элемент места находится рядом с другими, на своем «месте», он определяет место как «имеющуюся на данный момент конфигурацию позиций»[20]. Из этого следует, что в одном пространстве могут сосуществовать отличные друг от друга, отдельные элементы, но это никоим образом не мешает нам осмыслять ни их взаимоотношения, ни общую на всех идентичность, вытекающую из занятия ими общего места. Так, правила проживания, предписывающие определенное место ребенку (чаще всего рядом с матерью, но нередко и одновременно в доме своего отца или же в доме дяди или бабушки с материнской стороны), помещают его в определенную общую конфигурацию, чью вписанность в ландшафт он разделяет вместе с другими.
С точки зрения истории, наконец, место начинается с того момента, когда оно, сочетая идентичность и систему отношений, определяется некоей минимальной стабильностью. Место является местом в той степени, в которой его обитатели могут узнать в нем приметы и вехи, не обязательно являющиеся объектами познания. Антропологическое место для них является историческим ровно в той же степени, в какой оно ускользает от истории как науки. Это место, созданное предками («Когда, в какое время года / Войду под вековые своды, / Что с милой родиной срослись?»[21]), пестрит знаками, оставленными недавними умершими, чье воскрешение и интерпретации требуют особых знаний, чьи покровительственные силы пробуждаются к жизни через регулярные интервалы, продиктованные ритуальным календарем. Это место является противоположностью «мест памяти», о которых Пьер Нора столь справедливо пишет, что в них мы постигаем главным образом свое отличие, глядя на образ того, чем мы больше не являемся. Обитатель антропологического места живет в истории, а не творит ее. Разница между этими двумя отношениями к истории, возможно, еще очевидна для французов моего возраста, что застали 1940-е годы и могли видеть в своих деревнях (пусть и бывших для них лишь местом проведения каникул или отпусков) празднование Дня святых даров, крестный ход и молебен об урожае или ежегодное празднование дня того или иного святого покровителя места, чья статуя всегда находилась в тени одиноко стоящей часовни: ведь если эти обычаи исчезли, воспоминания о них не просто говорят нам – как другие воспоминания детства – о течении времени или изменениях, происходящих с нами; они исчезают по существу, вернее трансформируются: до сих пор отмечается время от времени тот или иной праздник, «как в старину», наподобие ежегодной летней реконструкции традиционного обмолота зерна; в восстановленной часовне иногда дают концерты или спектакли. Эта мизансцена, конечно, не обходится без нескольких смущенных улыбок или сравнений со старыми временами у местных старожилов: места, в которых они некогда жили обычной повседневной жизнью, отделяются ею и предлагаются зрителям в качестве «кусочка истории». Ставшие наблюдателями самих себя и туристами в своих собственных родных краях, они не смогут списать на ностальгию или воображаемую память те изменения, о которых объективно свидетельствует пространство, где они по-прежнему живут, но которое больше не является местом, где они жили.

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Китай все чаще упоминается в новостях, разговорах и анекдотах — интерес к стране растет с каждым днем. Какова же она, Поднебесная XXI века? Каковы особенности психологии и поведения ее жителей? Какими должны быть этика и тактика построения успешных взаимоотношений? Что делать, если вы в Китае или если китаец — ваш гость?Новая книга Виктора Ульяненко, специалиста по Китаю с более чем двадцатилетним стажем, продолжает и развивает тему Поднебесной, которой посвящены и предыдущие произведения автора («Китайская цивилизация как она есть» и «Шокирующий Китай»).

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Книга стала итогом ряда междисциплинарных исследований, объединенных концепцией «собственной логики городов», которая предлагает альтернативу устоявшейся традиции рассматривать город преимущественно как зеркало социальных процессов. «Собственная логика городов» – это подход, демонстрирующий, как возможно сфокусироваться на своеобразии и гетерогенности отдельных городов, для того чтобы устанавливать специфические закономерности, связанные с отличиями одного города от другого, опираясь на собственную «логику» каждого из них.

Внутри устоявшегося языка описания, которым пользуются современные урбанисты и социологи, сформировались определенные модели мышления о городе – иными словами, концептуализации. Сегодня понятия, составляющие их фундамент, и сами модели мышления переживают период смысловой «инфляции» и остро нуждаются в серьезной рефлексии. Эта книга о таких концептуализациях: об истории их возникновения и противостояния, о философских основаниях и попытках воплотить их в жизнь. В своем исследовании Виктор Вахштайн показывает, как идеи «локального сообщества», «городской повседневности», «территориального контроля», «общественного пространства» и «социальной сегрегации» закреплялись в языке социологов, архитекторов и планировщиков, как из категорий познания превращались в инструменты управления.
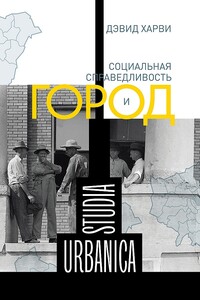
Перед читателем одна из классических работ Д. Харви, авторитетнейшего англо-американского географа, одного из основоположников «радикальной географии», лауреата Премии Вотрена Люда (1995), которую считают Нобелевской премией по географии. Книга представляет собой редкий пример не просто экономического, но политэкономического исследования оснований и особенностей городского развития. И хотя автор опирается на анализ процессов, имевших место в США и Западной Европе в 1960–1970-х годах XX века, его наблюдения полувековой давности более чем актуальны для ситуации сегодняшней России.

Город-сад – романтизированная картина западного образа жизни в пригородных поселках с живописными улочками и рядами утопающих в зелени коттеджей с ухоженными фасадами, рядом с полями и заливными лугами. На фоне советской действительности – бараков или двухэтажных деревянных полусгнивших построек 1930-х годов, хрущевских монотонных индустриально-панельных пятиэтажек 1950–1960-х годов – этот образ, почти запретный в советский период, будил фантазию и порождал мечты. Почему в СССР с началом индустриализации столь популярная до этого идея города-сада была официально отвергнута? Почему пришедшая ей на смену доктрина советского рабочего поселка практически оказалась воплощенной в вид барачных коммуналок для 85 % населения, точно таких же коммуналок в двухэтажных деревянных домах для 10–12 % руководящих работников среднего уровня, трудившихся на градообразующих предприятиях, крохотных обособленных коттеджных поселочков, охраняемых НКВД, для узкого круга партийно-советской элиты? Почему советская градостроительная политика, вместо того чтобы обеспечивать комфорт повседневной жизни строителей коммунизма, использовалась как средство компактного расселения трудо-бытовых коллективов? А жилище оказалось превращенным в инструмент управления людьми – в рычаг установления репрессивного социального и политического порядка? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в этой книге.