Не-места. Введение в антропологию гипермодерна - [12]
Один из моих первых опытов в этнологии – допрос мертвеца у народностей на территории народности алладиан – был в этом смысле образцовым, тем более что в разных формах этот ритуал практикуется на всей территории Западной Африки, а в других уголках мира встречаются эквивалентные техники. В общих чертах ритуал сводится к указанию мертвецом местонахождения виновника его смерти, будь то за пределами алладьанских деревень или в одной из них, внутри деревни, в которой проводится ритуал, или же вовне (в этом случае – к востоку или к западу от деревни), внутри или вне рода покойного, внутри или вне его дома и т. д. Иногда, впрочем, случалось, что мертвец, сокращая длительный ритуал опрашивания, увлекал группу своих носильщиков к хижине, ломясь в изгородь или входную дверь, и давая тем самым понять своим, что убийца находится в указанном месте. Сложно найти лучший пример того, как идентичность этнической группы (в данном случае, сложносоставной этнической общности, подобной народу алладьан), очевидно предполагающая наличие механизмов снятия внутреннего напряжения, постоянно подвергается проверке своих внешних и внутренних границ, которые примечательным образом заново очерчиваются, закрепляются, повторяются в связи почти с каждой индивидуальной смертью.
Фантазии о месте, некогда основанном и беспрерывно стремящемся к самообновлению, является фантазией лишь наполовину. Во-первых, она прекрасно работает – или скорее некогда прекрасно работала: ландшафтам был придан смысл, природа одомашнилась человеком, обеспечив воспроизводство поколений; в этом смысле боги места прекрасно справились с его охраной. Территория выстояла перед лицом как внешних угроз, так и внутреннего раскола, что, как мы знаем, не всегда было гарантировано: в этом случае также могли эффективно помочь такие приемы как предсказания и превентивные меры. Эта эффективность может оцениваться в масштабах семьи, нескольких родов, одной деревни или же этнической группы. Тех, кто занят расследованием отдельно взятых происшествий, разъяснением и устранением отдельных сложностей, всегда больше, чем жертв или виновников этих происшествий: всё и все держатся друг за друга.
Это – лишь наполовину фантазия, поскольку если никто не ставит под сомнение реальность общего места и сил, угрожающих или благоволящих ему, то никто и не оказывается в неведении ни относительно существования других групп (в Африке множество повествований об основании поселений упоминают войну и бегство) и, как следствие, других богов, ни насчет необходимости брать в жены женщину извне деревни. Нет никаких оснований думать, что в прошлом в большей степени, чем в настоящем, образ замкнутого и самодостаточного мира был – даже для тех, кто распространял этот образ и, соответственно, идентифицировался с ним, – чем-то большим, чем полезный и необходимый образом; не ложью, но мифом, расплывчато написанным на земле, хрупким, как и сама территория, единичность которой он обуславливает, образом, подлежащим, как и любые границы, возможным корректировкам, но в силу тех же самых причин обреченным на то, чтобы описывать последнее переселение народа как его первоначальное появление.
Именно в этой точке смыкаются иллюзии этнологов и домыслы туземцев. Эта точка сама является не более чем иллюзией наполовину. Ведь этнолог, стремящийся к тому, чтобы связать изучаемых им людей с ландшафтом, в котором он их исследует, и пространством, которому они придали форму, знает не хуже своих информантов обо всех превратностях их истории, об их мобильности, множественности упоминаемых ими пространств и непостоянстве их границ. Этнолог может, подобно своим информантам, соблазниться идеей сопоставить некогда существовавшую в прошлом стабильность со стремительными изменениями современности. Бульдозеры, меняющие ландшафты, молодежь, уезжающая в город, или «пришельцы», поселившиеся рядом, стирают самым конкретным, самым пространственным образом не только знакомый облик пространства, но и саму идентичность группы.
Но не в этом заключается суть искушения, испытываемого этнологом; оно имеет интеллектуальную природу и давно является неотъемлемой чертой этнологической традиции.

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Китай все чаще упоминается в новостях, разговорах и анекдотах — интерес к стране растет с каждым днем. Какова же она, Поднебесная XXI века? Каковы особенности психологии и поведения ее жителей? Какими должны быть этика и тактика построения успешных взаимоотношений? Что делать, если вы в Китае или если китаец — ваш гость?Новая книга Виктора Ульяненко, специалиста по Китаю с более чем двадцатилетним стажем, продолжает и развивает тему Поднебесной, которой посвящены и предыдущие произведения автора («Китайская цивилизация как она есть» и «Шокирующий Китай»).

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Книга стала итогом ряда междисциплинарных исследований, объединенных концепцией «собственной логики городов», которая предлагает альтернативу устоявшейся традиции рассматривать город преимущественно как зеркало социальных процессов. «Собственная логика городов» – это подход, демонстрирующий, как возможно сфокусироваться на своеобразии и гетерогенности отдельных городов, для того чтобы устанавливать специфические закономерности, связанные с отличиями одного города от другого, опираясь на собственную «логику» каждого из них.

Внутри устоявшегося языка описания, которым пользуются современные урбанисты и социологи, сформировались определенные модели мышления о городе – иными словами, концептуализации. Сегодня понятия, составляющие их фундамент, и сами модели мышления переживают период смысловой «инфляции» и остро нуждаются в серьезной рефлексии. Эта книга о таких концептуализациях: об истории их возникновения и противостояния, о философских основаниях и попытках воплотить их в жизнь. В своем исследовании Виктор Вахштайн показывает, как идеи «локального сообщества», «городской повседневности», «территориального контроля», «общественного пространства» и «социальной сегрегации» закреплялись в языке социологов, архитекторов и планировщиков, как из категорий познания превращались в инструменты управления.
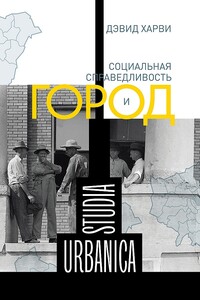
Перед читателем одна из классических работ Д. Харви, авторитетнейшего англо-американского географа, одного из основоположников «радикальной географии», лауреата Премии Вотрена Люда (1995), которую считают Нобелевской премией по географии. Книга представляет собой редкий пример не просто экономического, но политэкономического исследования оснований и особенностей городского развития. И хотя автор опирается на анализ процессов, имевших место в США и Западной Европе в 1960–1970-х годах XX века, его наблюдения полувековой давности более чем актуальны для ситуации сегодняшней России.

Город-сад – романтизированная картина западного образа жизни в пригородных поселках с живописными улочками и рядами утопающих в зелени коттеджей с ухоженными фасадами, рядом с полями и заливными лугами. На фоне советской действительности – бараков или двухэтажных деревянных полусгнивших построек 1930-х годов, хрущевских монотонных индустриально-панельных пятиэтажек 1950–1960-х годов – этот образ, почти запретный в советский период, будил фантазию и порождал мечты. Почему в СССР с началом индустриализации столь популярная до этого идея города-сада была официально отвергнута? Почему пришедшая ей на смену доктрина советского рабочего поселка практически оказалась воплощенной в вид барачных коммуналок для 85 % населения, точно таких же коммуналок в двухэтажных деревянных домах для 10–12 % руководящих работников среднего уровня, трудившихся на градообразующих предприятиях, крохотных обособленных коттеджных поселочков, охраняемых НКВД, для узкого круга партийно-советской элиты? Почему советская градостроительная политика, вместо того чтобы обеспечивать комфорт повседневной жизни строителей коммунизма, использовалась как средство компактного расселения трудо-бытовых коллективов? А жилище оказалось превращенным в инструмент управления людьми – в рычаг установления репрессивного социального и политического порядка? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в этой книге.