Не-места. Введение в антропологию гипермодерна - [11]
Вопрос об условиях, при которых осуществима антропология современности, должен быть обращен не на метод, а на объект. Это не означает, что вопросы метода не имеют определяющей важности или что они могут быть полностью отделены от вопросов об объекте. Однако вопрос об объекте является необходимой предпосылкой. Можно даже сказать, что он представляет вдвойне необходимое условие, так как, прежде чем интересоваться новыми социальными формами, новыми формами чувствительности или новыми институтами, могущими предстать в качестве характерных для текущего времени, необходимо обратить внимание на изменения, затронувшие фундаментальные категории, которыми люди мыслят о своей идентичности и о своих взаимоотношениях. Три аспекта феномена избыточности, которыми мы попытались охарактеризовать ситуацию гипермодерна (избыток событий, избыток пространства и индивидуализация референций), позволяют постичь гипермодерн без игнорирования его сложностей и противоречий, но и без превращения его в горизонт потерянной современности, за который невозможно заглянуть, и потому остается лишь отыскивать ее следы, описывать ее реликты и систематизировать архивы. XXI век будет веком антропологии – не только потому, что рассматриваемые нами три аспекта избыточности составляют не что иное, как современную форму вечного для антропологии «сырья», но и потому, что в ситуациях гипермодерна (как и в тех ситуациях, которые исследовали антропологи под названием «аккультурации») компоненты накапливаются, не разрушая друг друга. Поэтому мы заранее можем уверить тех, кого влечет к традиционным объектам антропологии (от альянса до религии, от обмена до власти, от владения до колдовства): они далеки от исчезновения как в Африке, так и в Европе. Однако они вновь обретут значение (трансформировав прежние смыслы) наряду со всем остальным в новом, ином мире, причины и причуды которого предстоит понять как нынешним антропологам, так и их коллегам в ближайшем будущем.
Антропологическое место
У этнолога и у тех, кого он изучает, есть нечто общее, а именно общее место: буквально место, которое аборигены занимают, работают в нем, защищают его, отмечают его ключевые точки, следят за его границами, но также подмечают в нем следы деятельности хтонических или небесных сил, предков или духов, населяющих место и создающих его внутреннюю географию, как если бы маленькая единица человеческой расы, приносящая им в этом месте подношения и жертвы, являлась ее квинтэссенцией; как если бы человечество было достойно своего имени только внутри пространства, освященного культом.
Этнолог же подходит с обратной стороны, неустанно расшифровывая в организации пространства (всегда подчеркиваемой и укрепляемой границе между дикой и одомашненной природой, постоянном или временном распределении возделываемых земель или вод, пригодных для ловли рыбы, планах деревень, расположении жилищ и правилах обитания в них – другими словами, в экономической, социальной, политической и религиозной географии группы) порядок столь жесткий (или, по крайней мере, очевидный), что его выражение в пространстве придает ему характер «второй природы». Этнолог, таким образом, воспринимает себя в качестве самого проницательного и осведомленного туземца.
Это место, общее для этнолога и исследуемых им туземцев, является в определенном смысле изобретением (invention; в значении, унаследованном от латинского invenire): на него «набрели» те, кто затем обозначил его в качестве своего. Нарративы об основании редко повествуют об автохтонности (извечной принадлежности людей к месту); чаще, напротив, в таких повествованиях духи места и первые обитатели встречаются в сюжете приключения, переживаемого перемещающейся группой. Социальное разграничение земли тем важнее, что оно чаще оказывается не-изначальным. Этнолог, в свою очередь, восстанавливает историю возникновения этого разграничения. Бывает и так, что его вмешательство и любопытство способствуют развитию у информантов интереса, «вкуса» к собственным корням, который часто заглушен явлениями, связанными с текущей или недавней жизнью группы: миграцией в города, сменой состава населения, экспансией индустриальной культуры.
Безусловно, в основе этого двойного изобретения лежит реальность, составляющая ее «сырье» и ее же объект. Но она также может порождать домыслы и иллюзии: например, воображаемое аборигенами общество, вросшее с незапамятных времен в неизменность нетронутого ландшафта, за пределами которого не существует никакого понятного мира; или фантазию этнолога об обществе, столь прозрачном для самого себя, что оно выражается полностью в малейшем из своих обычаев, в любой своей институции и во всеобъемлющей личности каждого его члена. Знание о систематическом картировании природы, которое производили все общества, включая кочевые, дает продолжение фантазиям и питает иллюзии.
Представление туземцев о мире – это образ мироздания замкнутого, созданного раз и навсегда и не подлежащего, строго говоря, познанию. Все, что положено знать, о нем уже известно: расположение земель, лесов, родников, достопримечательностей, священных мест, целебных растений – не исключая и временного измерения, касающегося открытия мест, чья легитимность постулируется и чья стабильность обеспечивается рассказами о происхождении и ритуальным календарем. Все, что следует делать туземцам, это

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Китай все чаще упоминается в новостях, разговорах и анекдотах — интерес к стране растет с каждым днем. Какова же она, Поднебесная XXI века? Каковы особенности психологии и поведения ее жителей? Какими должны быть этика и тактика построения успешных взаимоотношений? Что делать, если вы в Китае или если китаец — ваш гость?Новая книга Виктора Ульяненко, специалиста по Китаю с более чем двадцатилетним стажем, продолжает и развивает тему Поднебесной, которой посвящены и предыдущие произведения автора («Китайская цивилизация как она есть» и «Шокирующий Китай»).

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Книга стала итогом ряда междисциплинарных исследований, объединенных концепцией «собственной логики городов», которая предлагает альтернативу устоявшейся традиции рассматривать город преимущественно как зеркало социальных процессов. «Собственная логика городов» – это подход, демонстрирующий, как возможно сфокусироваться на своеобразии и гетерогенности отдельных городов, для того чтобы устанавливать специфические закономерности, связанные с отличиями одного города от другого, опираясь на собственную «логику» каждого из них.

Внутри устоявшегося языка описания, которым пользуются современные урбанисты и социологи, сформировались определенные модели мышления о городе – иными словами, концептуализации. Сегодня понятия, составляющие их фундамент, и сами модели мышления переживают период смысловой «инфляции» и остро нуждаются в серьезной рефлексии. Эта книга о таких концептуализациях: об истории их возникновения и противостояния, о философских основаниях и попытках воплотить их в жизнь. В своем исследовании Виктор Вахштайн показывает, как идеи «локального сообщества», «городской повседневности», «территориального контроля», «общественного пространства» и «социальной сегрегации» закреплялись в языке социологов, архитекторов и планировщиков, как из категорий познания превращались в инструменты управления.
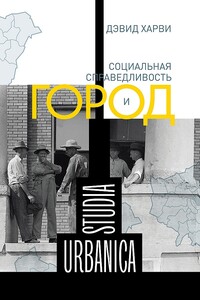
Перед читателем одна из классических работ Д. Харви, авторитетнейшего англо-американского географа, одного из основоположников «радикальной географии», лауреата Премии Вотрена Люда (1995), которую считают Нобелевской премией по географии. Книга представляет собой редкий пример не просто экономического, но политэкономического исследования оснований и особенностей городского развития. И хотя автор опирается на анализ процессов, имевших место в США и Западной Европе в 1960–1970-х годах XX века, его наблюдения полувековой давности более чем актуальны для ситуации сегодняшней России.

Город-сад – романтизированная картина западного образа жизни в пригородных поселках с живописными улочками и рядами утопающих в зелени коттеджей с ухоженными фасадами, рядом с полями и заливными лугами. На фоне советской действительности – бараков или двухэтажных деревянных полусгнивших построек 1930-х годов, хрущевских монотонных индустриально-панельных пятиэтажек 1950–1960-х годов – этот образ, почти запретный в советский период, будил фантазию и порождал мечты. Почему в СССР с началом индустриализации столь популярная до этого идея города-сада была официально отвергнута? Почему пришедшая ей на смену доктрина советского рабочего поселка практически оказалась воплощенной в вид барачных коммуналок для 85 % населения, точно таких же коммуналок в двухэтажных деревянных домах для 10–12 % руководящих работников среднего уровня, трудившихся на градообразующих предприятиях, крохотных обособленных коттеджных поселочков, охраняемых НКВД, для узкого круга партийно-советской элиты? Почему советская градостроительная политика, вместо того чтобы обеспечивать комфорт повседневной жизни строителей коммунизма, использовалась как средство компактного расселения трудо-бытовых коллективов? А жилище оказалось превращенным в инструмент управления людьми – в рычаг установления репрессивного социального и политического порядка? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в этой книге.