Не-мемуары - [9]
Мы переплыли. Я вылез из лодки и пошел с чувством переходящей все пределы усталости и ожидая, что здесь, на берегу, я сейчас натолкнусь на прочную нашу оборону. Там я получу данные о дальнейшем маршруте. Никакой обороны не было. По этому берегу, как и по тому, бродили отдельные солдаты. Куда идти — было совершенно непонятно. Я лег на мокрый береговой песок и уснул, кажется, прежде, чем успел опустить голову. Сколько я проспал — не знаю. Потом я встал и пошел на восток, надеясь, что все-таки на какую-то оборону натолкнусь. Не может же быть, что фронт совершенно голый.
Дон в этом месте течет несколькими то сливающимися, то расходящимися потоками. У меня не было сил искать какие-либо места перехода. Я шел по прямой вброд, один за другим преодолевая довольно глубокие параллельные рукава. Было совершенно пустынно. Сил не было абсолютно, но я нашел способ их поддерживать: я шел и стрелял трассирующими патронами в небо, один за другим. Это каким-то странным образом позволяло пересилить чувство потерянности. При этом я во весь голос дико выкрикивал самые непечатные ругательства. Смесь выстрелов и моей дикой ругани странным образом поддерживала. Наконец, я перешел последний приток, бухнулся на землю и снова тут же уснул. Переправа через Дон была закончена.
Летом 1942 года фронт относительно стабилизировался. Нас пополнили и направили в район Моздока (Чечено-Ингушетия). Небольшой городок Малгобек, расположенный прямо на Тереке, находился непосредственно на линии фронта. По ту сторону реки, где было казачье население, расположился передний край немцев. Мы удерживали южный берег, но слово «удерживали» здесь можно употребить только метафорически: пехоты у нас почти не было. Наши пушки, насколько это позволял ограниченный запас снарядов, должны были одновременно выполнять свою прямую задачу — подавлять артиллерию противника — и страховать переправу, к чему они были мало приспособлены.
В ингушских домах прямо на берегу (население убежало в горы, и деревня была совершенно пустой) мы устроили ПНП (передовой наблюдательный пункт) и ожидали со дня на день начала новой волны немецкого наступления. Используя колоритные средства солдатского языка, мы обсуждали, что будем в этом случае делать, имея всего пять снарядов. Противник, видимо, даже не подозревал, сколь скудны были наши средства, и усиленно накапливал резервы (мы это прекрасно видели), готовясь к прорыву. Ему, видимо, и в голову не могло прийти, что ему противостоит на этом участке лишь дивизион артиллерии почти без снарядов, одна минометная батарея и какие-то ничтожные, наскоро собранные и плохо оснащенные отряды, составленные из самой разной публики, включая поваров, штабных писарей. Когда я — не без иронии — спросил командовавшего ими старшего лейтенанта: «А что это за род войск?» — он ответил изысканным матом опытного фронтовика, и мы оба покатились со смеху.
На противоположном берегу, прямо против нас, был расположен немецкий наблюдательный пункт и штаб. Мы прекрасно видели все, что там делается, и могли пересчитать по пальцам мотоциклы, которые непрерывно подъезжали и откатывали. Там шла оживленная штабная и наблюдательная работа, но снарядов у нас было так мало, что строго было приказано: стрелять только если противник начнет переправу. А наше молчание вдохновляло тот берег.
Однажды (жара стояла уже настоящая) мы увидели, что часовой, охранявший вход в штаб, стоит на посту совершенно голый, в чем мать родила, только в сапогах и с автоматом на шее. Он не только защищался этим от жары, но и явно находил удовольствие в том, какое впечатление должен был производить его вид на нас. Стоя анфас к нашему пункту, он хохотал и хлопал себя по животу. Наш лейтенант не выдержал такого унижения и выпросил в штабе три снаряда: «Ну хоть припугнуть немножко, чтоб штаны надел», — упрашивал он комбата и получил ответ: «Ну ладно, три штуки дай». Тремя снарядами пристрелять орудие, даже если раньше пристрелка уже была, почти невозможно — ведь то ветер, а то орудие с каждым выстрелом пусть незначительно, но оседает, особенно на нетвердой прибрежной почве. Всем этим можно было пренебречь при обычной, массированной стрельбе. Это было бы просто незаметно. Но здесь работа была филигранная и требовала предельной точности, Наше орудие, выпустив три снаряда, конечно, не принесло заречному соседу никакого вреда, но намек он все-таки понял и штаны надел.
Вообще, отношение к обнаженному телу у нас и в немецкой армии было совершенно различным. Причем здесь явно сказывалась разница между европейским и восточным взглядом на этот вопрос. Немцы не только не стыдились (все наши наблюдения шли через линию фронта, потому мое мнение нуждается в корректировке) расстегнутости, обнаженного тела, но даже, видимо, находили в этом особый стиль. Они охотно разъезжали по фронту голые на мотоциклах, на немецких воинственных плакатах фронтовой немецкий офицер всегда изображался в расстегнутой на груди форме и с закатанными рукавами (вероятно, в немецкой армии все это воспринималось как «марциальный шик»). У нас было принято стыдиться своего тела (я не помню, чтоб кто-нибудь из нас, особенно из крестьянских ребят, раздевался для того, чтобы загорать). Если в жару на работе мы позволяли себе вольность, это могло быть до пояса голое тело, но при обязательных штанах и сапогах.
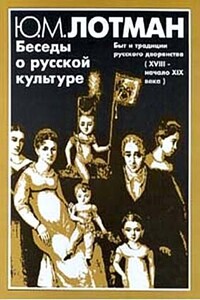
Автор — выдающийся теоретик и историк культуры, основатель тартуско-московской семиотической школы. Его читательская аудитория огромна — от специалистов, которым адресованы труды по типологии культуры, до школьников, взявших в руки «Комментарий» к «Евгению Онегину». Книга создана на основе цикла телевизионных лекций, рассказывающих о культуре русского дворянства. Минувшая эпоха представлена через реалии повседневной жизни, блестяще воссозданные в главах «Дуэль», «Карточная игра», «Бал» и др. Книга населена героями русской литературы и историческими лицами — среди них Петр I, Суворов, Александр I, декабристы.
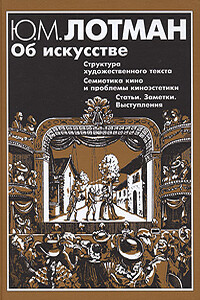
Монография вошла в сборник «Об искусстве», в котором впервые были собраны и систематизированы труды Ю.М.Лотмана по теории и истории изобразительного искусства, театра, кино, по общеэстетическим проблемам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
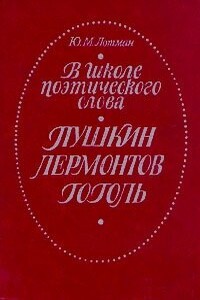
Книга, предназначенная учителю-словеснику, познакомит с методами анализа литературного текста и покажет образцы применения этих методов к изучению произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя.Литературоведческий анализ дается на материале как включенных в школьную программу произведений, так и непрограммных.Работа будет способствовать повышению филологической культуры читателей.

Книга, написанная видным советским ученым, содержит пояснения к тексту романа А. С. Пушкина, которые помогут глубже понять произведение, познакомят читателя с эпохой, изображенной в романе, деталями ее быта, историческими лицами, событиями, литературными произведениями и т. д.Комментарий поможет учителю при изучении пушкинского романа, даст ему возможность исторически конкретно и широко истолковать произведение.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге академика В. А. Казначеева, проработавшего четверть века бок о бок с М. С. Горбачёвым, анализируются причины и последствия разложения ряда руководителей нашей страны.
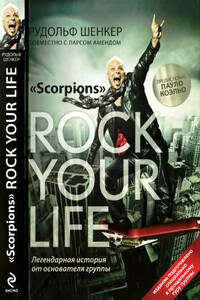
Создатель и бессменный гитарист легендарной рок-группы «Scorpions» вспоминает о начале своего пути, о том, как «Скорпы» пробивались к вершине музыкального Олимпа, откровенно рассказывает о своей личной жизни, о встречах с самыми разными людьми — как известными всему миру: Михаил Горбачев, Пауло Коэльо, так и самыми обычными, но оставившими свой след в его судьбе. В этой книге любители рока найдут множество интересных фактов и уникальных подробностей, знакомых имен… Но книга адресована гораздо более широкому кругу читателей.
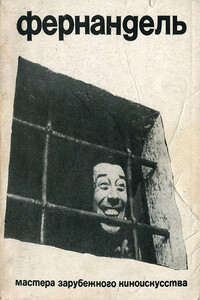
Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.
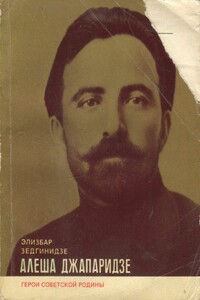
Короткая, но прекрасная жизнь Прокофия Апрасионовича Джапаридзе (Алеши) оборвалась зловещей ночью 20 сентября 1918 года: в числе 26 бакинских комиссаров его расстреляли английские интервенты и их эсеро-меньшевистские наймиты. Несгибаемому большевику, делегату III и VI съездов партии, активному участнику трех революций — Алеше Джапаридзе и посвящается эта книга, написанная грузинским писателем Э. К. Зедгинидзе. Перед читателем проходят волнующие встречи Джапаридзе с В. И. Лениным, эпизоды героической борьбы за власть Советов, за торжество ленинских идеи. Книга адресована массовому читателю.

Много «…рассказывают о жизни и творчестве писателя не нашего времени прижизненные издания его книг. Здесь все весьма важно: год издания, когда книга разрешена цензурой и кто цензор, кем она издана, в какой типографии напечатана, какой был тираж и т. д. Важно, как быстро разошлась книга, стала ли она редкостью или ее еще и сегодня, по прошествии многих лет, можно легко найти на книжном рынке». В библиографической повести «…делается попытка рассказать о судьбе всех отдельных книг, журналов и пьес И.
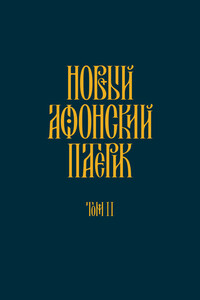
Составитель этой книги – один из уважаемых афонских старцев, по смирению пожелавший остаться неизвестным. Более 30 лет он собирал и систематизировал повествования и изречения, отражающие аскетическое и исихастское Предание Святой Афонской Горы. Его восемьсотстраничная книга, вышедшая на Афоне в 2011 году, выдержала несколько переизданий. Ради удобства читателей и с благословения старца русский перевод выходит в трёх томах – «Жизнеописания», «Сказания о подвижничестве» и «Рассказы старца Паисия и других святогорцев», которые объединены общим названием «Новый Афонский патерик».Второй том патерика содержит краткие истории об афонских монахах XX века и их яркие высказывания.