Не-мемуары - [3]
Основной ударной силой в будущей войне представлялись тачанки. Фильм кончался праздником победы после войны: с экрана на нас смотрели популярные актеры (на войне, которая шла на экране, конечно, никто из них не погиб), а за спиной у них пылал фейерверк победы. Такой представлялась нам война. Такой, да не такой. Мы все читали «На западном фронте без перемен» Ремарка и «Прощай, оружие!» Хемингуэя и достаточно много слышали и говорили о мировой революции, о второй всемирной войне. И как-то усердно об этом забывали.
Это чувство напоминает мне следующее, лично пережитое: летом сорок второго года нам довелось вырываться из окружения. Мы вытаскивали с собой наши орудия, которые везли трактора. За минуты — не могу сказать, сколько их было, может быть пятнадцать, может быть сорок, — убило двух трактористов, на их место садились новые (тракторист не мог прижаться к земле, находился практически без защиты на своей медленной, шесть-восемь километров в час, и неуклюжей машине). Трактора были гражданские, мы их до этого реквизировали в колхозе. Такое же чувство надвигающейся угрозы и вместе с тем желание забыть о ней было, помню, за несколько минут до начала прорыва. Мы все лихорадочно уснули «про запас», ощущая, что этот отдых нам еще потребуется. То же самое было и перед войной: все, не говоря этого, чувствовали, что эти минуты нам еще понадобятся. Все торопились веселиться.
Так и у нас дома. Отец уезжал в командировку за день до того, как я должен был явиться в военкомат. Я отправился на студенческую вечеринку, которую группа устраивала мне на прощание, и вышло так, что в армию я ушел не простившись с отцом и больше его никогда не видел. Мать пошла на работу в свою поликлинику. Провожать меня пошла только средняя сестра Лида, которая принесла мне конфет.
Провожали нас торжественно. Перед погрузкой нас выстроили около вагонов и командир эшелона объявил, что с прощальным словом к нам обратится старый питерский пролетарий. Слово это я запомнил на всю жизнь как «Отче наш»: «Ребята! Гляжу я на вас, и жалко мне вас. А пораздумаю я о вас, так и… с вами!» «По вагонам!» — взревел командир, и мы отправились в путешествие, которое оказалось долгим.
Ехали мы весело, в теплушке, сразу разбились на небольшие группы. Я был на втором этаже, а третий этаж напротив заняла группа, которая назвала себя лордами, а свою полку — палатой лордов. Мы, естественно, противостояли им как демократия.
Дорога была очень веселой. Все было ново — и быт, и география: нас везли в Грузию. Только в Кутаиси нам сообщили, где мы будем служить. Местом службы был назначен 427-й артиллерийский полк. В этом полку (он менял название, превращался в гвардейский, потом в бригаду) под командованием командира полка К. Дольста я прослужил всю войну.
Дольст был немец. Правда, в той ситуации такая национальность не очень украшала, и он называл себя латышом, но все знали правду. Большинство офицеров из среднего и высшего командного составов к этому времени были арестованы, и армия практически была передана молодым командирам, занимавшим должности выше своих чинов. Как ни странно, это оказалось в военном смысле очень выгодно — старое начальство ворошиловских и буденновских времен или аракчеевцев типа маршала Тимошенко показало себя во время войны абсолютно не пригодными ни к чему.
На фронте один только раз, протянув связь в не помню какой, но очень высокий штаб, я видел маршала Тимошенко: он сидел в блиндаже под тремя накатами (наша землянка была прикрыта еловыми ветками, присыпанными сверху землей) и еле мог выдавить из себя слово — губы его тряслись, хотя никакой реальной опасности вокруг не было.
Осмелюсь сказать, что жестокий сталинский террор, прокатившийся по армии, пусть это покажется диким, имел, вопреки ожиданиям и самого Сталина, положительную сторону — он очистил армию от бездарных и некультурных командиров, доставшихся от первых послереволюционных лет. Конечно, среди репрессированных были и мужественные, и талантливые люди — они погибли в первую очередь, но террор был столь широким, что под него попадали и дураки. По крайней мере (уклонюсь от общих рассуждений и буду говорить только о личном опыте) полк, в который я попал, был укомплектован командирами (слово «офицер» тогда не было принято), занимавшими должности выше звания, молодыми и хорошо подготовленными. Скажу несколько слов о них, потому что с ними мне пришлось провести практически всю войну. Командир батареи капитан Григорьев был блестящий артиллерист. Командиром взвода был только что призванный запасник Шалиев, которого мы называли Стариком, — ему было чуть-чуть за сорок. Умный и, что очень важно, очень спокойный в боевых условиях человек. Военной выправки в нем не было ровно никакой, артиллерист же он был очень хороший. Заканчивал войну уже не в нашем полку, в генеральском чине, и, кажется, в конце войны погиб.
Начало боевых действий воспринималось нами как давно ожидаемое и потому облегчающее событие. А кроме того, было весело (да, да, весело) пережить на практике то, что так долго переживалось и уме. Помню такую сцену в один из первых дней. Я — на огневой у телефона. Пушки стреляют. Прямо к пушкам, несмотря на падающие поблизости снаряды, подкатывает полуторка. С крыла ее (особый шик был в том, чтобы ехать не внутри, а стоя на крыле машины: кроме шика, это давало возможность вовремя замечать пикирующие самолеты, но шик тоже был важен) соскакивает командир дивизиона и лихо, громовым командным голосом произносит: «Молодцы, первая (то есть первая батарея — это мы)! По вам стреляют, и вы стреляете, и получается — что получается? — артиллерийская дуэль».

Седьмая книга сочинений Ю. М. Лотмана представляет его как основателя московско-тартуской семиотической школы, автора универсальной семиотиче¬ской теории и методологии. Работы в этой области, составившие настоящий том, принесли ученому мировую известность. Публикуемые в томе монографии («Культура и взрыв» и «Внутри мыслящих миров»), статьи разных лет, по существу, заново возвращаются в научный обиход, становятся доступными широким кругам гуманитариев. Книга окажется полезной для студентов и педагогов, историков культуры и словесников, для всех, кто изучает глубинные явления культуры.СЕМИОСФЕРА Культура и взрыв Внутри мыслящих миров Статьи.
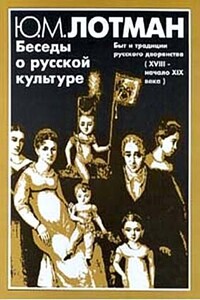
Автор — выдающийся теоретик и историк культуры, основатель тартуско-московской семиотической школы. Его читательская аудитория огромна — от специалистов, которым адресованы труды по типологии культуры, до школьников, взявших в руки «Комментарий» к «Евгению Онегину». Книга создана на основе цикла телевизионных лекций, рассказывающих о культуре русского дворянства. Минувшая эпоха представлена через реалии повседневной жизни, блестяще воссозданные в главах «Дуэль», «Карточная игра», «Бал» и др. Книга населена героями русской литературы и историческими лицами — среди них Петр I, Суворов, Александр I, декабристы.
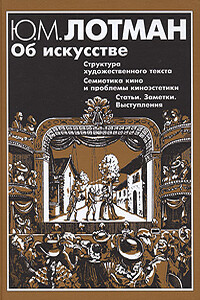
Монография вошла в сборник «Об искусстве», в котором впервые были собраны и систематизированы труды Ю.М.Лотмана по теории и истории изобразительного искусства, театра, кино, по общеэстетическим проблемам.

Книга, написанная видным советским ученым, содержит пояснения к тексту романа А. С. Пушкина, которые помогут глубже понять произведение, познакомят читателя с эпохой, изображенной в романе, деталями ее быта, историческими лицами, событиями, литературными произведениями и т. д.Комментарий поможет учителю при изучении пушкинского романа, даст ему возможность исторически конкретно и широко истолковать произведение.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
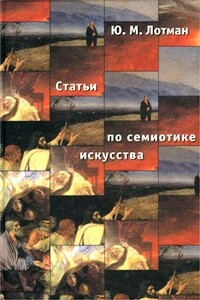
Книга Ю. М. Лотмана (1922–1993), выдающегося филолога и культуролога, основателя Тартуско-московской семиотической школы, включает статьи, в которых иллюстрируется концепция культуры как текста, принесшая ученому всемирную известность. Конкретные объекты, такие как искусство, общество, индивидуальное и коллективное поведение рассматриваются здесь как тексты, действующие внутри сложного семиотического организма — культуры.http://fb2.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.