Навеки вместе - [26]
— Небаба…
Всю дорогу до Слуцка хорунжий Гонсевский думал о друге молодости Витольде Замбржицком. Витольд жил в Слободе, в тридцати верстах от Слуцка. Гонсевский — в маентке Бучати. На добром коне час езды. Вместе с Замбржицким сражались под Смоленском и вместе делили тяготы походной жизни. Не расставались и позже, когда обзавелись семьями. Зимними вечерами любили сидеть в жарко натопленных комнатах и вести разговоры о былых сражениях, о славе, которую добывали для Речи Посполитой в походах. И теперь Гонсевский удивлялся тому, что сидит в своем маентке Замбржицкий, словно в берлоге, и нет ему никакого дела, что делается вокруг.
Гонсевский решил заехать к пану Витольду, хоть и не был уверен, что застанет его дома, — шановное панство стремится уйти подальше от огня. Но слуги сейчас же раскрыли ворота, и Гонсевский, бросив повод, широкими, быстрыми шагами пошел к дому. Замбржицкий встретил его на крыльце.
— Два года не видались.
— Ты совсем поседел, шановный, — осматривая друга, заметил Гонсевский. — Но все такой же.
Хорунжий видел ту же стройную фигуру, крутой лоб, тонкий нос и гладко выбритые щеки. Пану Витольду Замбржицкому было за шестьдесят, и годы эти выдавала только седина.
— Откуда путь держишь? — Замбржицкий потрепал хорунжего по плечу.
— Из Несвижа. Насилу добрался и устал до смерти.
— Понимаю. Хлопот много. Крепок ли ясновельможный пан Радзивилл?
— Крепок. Приехал из Кейдан и собирает войско. Вся Речь Посполитая поднимается.
— А я вот видишь, ни с места, — усмехнулся Замбржицкий.
— Стар стал? — слукавил хорунжий.
— Стар. А ты не угомонишься.
Гонсевский расстегнул мундир, снял саблю и сладко потянулся в мягком кресле.
— Как угомониться, если меч повис над ойчиной? Ты не взял саблю, да пан Шиманский не взял, да пан Любецкий… — Гонсевский поджал губы. — Шановный полковник пан Кричевский и тот где-то отсиживается…
Замбржицкий слушал, опустив голову.
— Кричевский не будет отсиживаться… Так мне кажется.
Гонсевский пожал плечами.
— У тебя, шановный, тихо? Кругом бушует чернь.
— Пока бог хранит. Разворошили гнездо и дивимся теперь.
— Кто разворошил? — насторожился Гонсевский. — Ты? Я? Или пан Шиманский? Кто?
— Так. И ты, И я… — согласился Замбржицкий. — Чинши непомерно велики для черни. Потому холопы наши и все подданные маентностей и взбунтовались. Немало шкод починили… А потом еще требуем униатский обряд соблюдать. Вспомни шановного канцлера Льва Сапегу. Не он ли писал, что владыка Полоцкий[8] слишком жестоко начал насаждать унию и потому омерзел и надоел народу.
Гонсевский заворочался в кресле.
— Будет, шановный! Знаю твою приверженность к холопам.
Замбржицкий замолчал. Хорунжий Гонсевский понял, что не было и нету у него дружбы с Витольдом Замбржицким. Но сказал не то, что думал:
— Люблю я тебя, друже, за верное сердце и за то, что предан ты Речи. Но печешься о хлопах зря.
Сколько Замбржицкий ни упрашивал хорунжего остаться ночевать — не упросил.
— Не могу, шановный, тороплюсь в войско…
Все десять верст до лагеря ехал шагом. Качаясь в седле, думал о Замбржицком. И вдруг пришла дерзкая мысль: прикинув и рассчитав, решил, что шаг будет правильный — нечего размышлять.
Прибыв в войско, вызвал сержанта и вел с ним тайный разговор. Тот поклялся, что будет разговор держать в тайне. Сержант подобрал трех ловких воинов. Когда начало смеркаться, они сели на коней и поехали к Слободе пана Замбржицкого. Под самым маентком пана в кустах сели в засаду. Всю ночь не спускали глаз с дороги, что вела в маенток, вслушивались в темноту — не слыхать ли осторожного топота всадников, не скрипит ли холопская телега? Десять ночей сидели в засаде и на зорьке возвращались в отряд. Сержант в мыслях проклинал хорунжего за бессонные ночи и посмеивался над глупой затеей. На пятнадцатую ночь замерли в кустах — нет, не почудилось, а услыхали конский топот. Вскоре различили всадников. Один впереди, двое сзади. В маентке собаки учуяли чужих и залились хрипастым лаем, потом снова наступила тишина. Сержант строго выполнял наказ хорунжего и поспешно послал одного воина в лагерь. Сам же с двумя рейтарами приготовился к бою. Как только всадники будут покидать маенток, налетит и порубит. Так было приказано…
Еще не заалело небо, как в маентке прокричали первые петухи. Томительно тянулись минуты, и сержант потерял надежду, что появятся таинственные кони. Все же они появились. Из маентка вышли рысью и, ускоряя бег, направились по узкой дороге к шляху. Когда поравнялись с кустами орешника, выскочила засада, с саблями наголо. Сержант вырвался вперед. Сверкнула сабля, и человек медленно, со стоном сполз с седла. Тут же грянул выстрел пистоли, потом второй. Выронил саблю сержант. Поднялись на дыбы испуганные рейтарские кони, метнулись в сторону. И два всадника растаяли в густой синеве ночи. Рейтары взвалили на седло убитого сержанта, подняли раненого всадника и, усадив его на коня, подались к лагерю.
Было светло, когда, потирая заспанные глаза, вышел из дома хорунжий. Поеживаясь от утреннего тумана, приказал подвести ближе раненого. Тот стонал, но шел. Рана оказалась не опасной — спасла железная пряжка ремня, на котором висел ольстр.
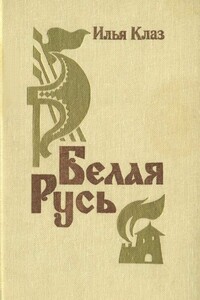
Роман И. Клаза «Белая Русь» посвящен одной из ярких страниц в истории освободительной войны народных масс Белоруссии в XVII веке. В центре произведения — восстание в Пинске в 1648 году, где горожане и крестьяне совместно с казаками, которых прислал на помощь Богдан Хмельницкий, ведут смертельную борьбу с войсками гетмана Радзивилла.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.
