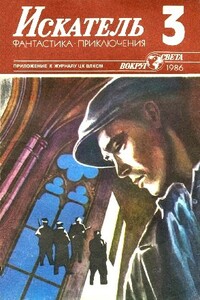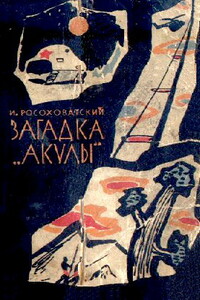Что делать? Как спасти сына? Убить его, пока он еще крохотный и ничего не понимает?! Кажется, это единственный выход. Так поступали в Спарте с болезненными детьми, с калеками.
Он гнал от себя страшную мысль, но она не хотела уходить. Он боялся смотреть на регистратор, боялся, что сейчас набросится на него, разобьет вдребезги проклятый аппарат, записывающий информацию вселенной к бессильный изменить ее. Если бы знать раньше, над чем следует работать, как жить! Если бы знать!
Хьюлетт Кондайг медленно вышел из своего кабинета, сухо попрощался с лаборантами, закрыл за собой дверь.
Он влез в автобус, купил билет у насвистывающего мальчишки-кондуктора и поднялся на второй этаж, где можно было курить. Попыхивая трубкой, Хьюлетт рассматривал попутчиков. Почти все они уткнули носы в газеты. Хьюлетт тоже заглянул в газету, которую держал в руках сосед. В глаза бросились крупные заголовки:
«Новая угроза на Ближнем Востоке», «Новые атомные бомбоубежища фирмы Уоррен».
«И это еще ко всему, — злорадно подумал он. — Может быть, если бы я жил в спокойном разумном мире, дремлющая искра не вспыхнула бы. Но разве на этой сумасшедшей планете можно оставаться нормальным?»
Еще издали, за два квартала, он увидел над Пикадилли огромную светящуюся рекламу — голову младенца с мерцающими глазами. Она словно рассматривала толпу, оценивала — чего можно ожидать от этих людей, что они готовят для нее.
Хьюлетт вышел из автобуса на площади. На минуту задержался у бронзовой статуи Эроса. Бог любви наложил стрелу на тетиву и готовился пустить ее в чье-то ожидающее сердце. Что такое любовь для Хьюлетта, если его сын не должен был появляться на свет?..
«А впрочем, — подумал он, — разве другие, имея детей, знают, для чего они рождаются? Разве мы все не отравляем их своими привычками и нормами, не заботясь о том, что в новом времени, в котором будут жить дети, — эти нормы и привычки послужат обузой. Мы стараемся вырастить их по своему образу и подобию, как будто мы — лучший вариант, платино-иридиевый уникальный образец, по которому должны создаваться все копии…»
Хьюлетт пересек площадь и свернул на длинную извилистую улицу. Постепенно реклам и витрин становилось все меньше. Начинался район Сохо — убежище художников, поэтов, кварталы меблированных квартир. Здесь в сквериках прогуливались бабушки и мамы, держа на поводках малышей. Плакучие ивы мыли свои косы в фонтанах, в парке на ярких бархатных газонах лежали молодые люди.
Хьюлетт всячески оттягивал приход домой. Он боялся навязчивого решения, зревшего в нем, как единственное спасение для сына. Нужно было задавить это решение, пока оно не вспыхнуло и не сожгло его волю. Выиграть время!
Напротив виднелась хорошо знакомая вывеска паба[1] — кружка с черным пивом-гиннесс и грубо намалеванные буквы: «Железная лошадь».
Хьюлетт вошел в паб, заказал кружку пива и бифштекс. Рядом с ним за другим столиком сидело двое подвыпивших моряков. На толстых коричневых шеях виднелись белые полоски.
Этот паб стоит здесь сто пятьдесят лет. Сюда заходил дед…
И внезапно, как Хьюлетт ни крепился, опасные мысли прорвали плотину и заполнили его мозг. Он увидел то, чего боялся, — своего деда, каким видел его в последний раз — с взъерошенной копной грязных нечесанных волос, с пеной в уголках рта. Он извивался в руках дюжих санитаров… И эта участь по слепым жестоким законам природы ожидает Хьюлетта и, может быть, его сына.
Кондайг задыхался от ненависти. Он представил себе, как дед играет с ним, качает на коленях, подбрасывает на вытянутых руках… А вот дед в китайской курильне опиума… Он полулежит на циновке, волшебные видения проносятся в его затуманенном мозгу. А потом возвращается в родную Англию, к невесте. В чемодане, рядом с награбленным золотом, лежат шарики с одурманивающим ядом и две трубки. Конечно же, он совсем не думает, что передаст свою отравленную опиумом кровь и нарушенную структуру нервных клеток сыну, внуку, правнуку. И вот рождается ребенок — с носом отца, ласковыми глазами матери, с подбородком деда и…
А если он попадет в эти условия, в больной, сумасшедший мир, «Железная лошадь» довезет его по той же дороге… А в какой мир может попасть ребенок, как не тот, что приготовили для него предки?
Хьюлетт отодвинул от себя еду, бросил на столик монету и поспешно вышел на улицу. В голове словно работали жернова.
«…Говоря о лучшем Mиpe, мы оставляем потомкам отравленные наркотиками и алкоголем клетки; отравленные предрассудками законы; нормы, сковывающие крепче, чем кандалы каторжников; свои неоконченные дела, в которых больше ошибок, чем истин; свои несбывшиеся надежды, которые могут оказаться гибельными».
Пошатываясь, Хьюлетт поднялся по деревянной лесенке. Остановился у двери. Ему было страшно входить, потому что как только он увидит малыша, он подумает о его опасении. И снова из мрака, колеблющегося в его мозгу, выплывет то самое решение…
Хьюлетт проглотил сразу две таблетки. Позвонил.
Дверь открыла Эми — тоненькая, свежая, источающая аромат духов, как вечерний цветок. Над маленьким смуглым лбом подымались волной крашеные белые волосы.