Наша улица (сборник) - [44]
- Вот видишь, почти гимназист, ученый, а бондарем будет получше тебя. Гершон ставит меня в пример своему сыну Файтлу, который помогает ему в работе. - Пусть только отец отдаст мне мальчишку на один год - увидишь, что я из него сделаю!
Гершон ошибался: хотя бондарное ремесло мне нравилось, я в то время мечтал стать не бондарем, а токарем.
Нахке, отец Мотла, токарь по дереву, совсем еще молодой человек веселого нрава, постоянно напевавший за работой, казался мне художником и чародеем. Я глаз не мог оторвать от его рук, в которых обыкновенные куски дерева принимали такие законченные формы. Мне казалось, что Нахке лепит эти красивые вещи своими ловкими пальцами. Обидно только, что он не дает мне и близко подойти к токарному станку, хотя бы шарик выточить.
- Нет, малыш, - усмехаясь, отстраняет меня Нахке. - Куда тебе с твоими нежными ручками? Не оглянешься, как нечем будет кукиш показать!
Даже собственного сына он не подпускает к станку.
- Быть токарем - все равно что кантором: мною кричишь, а хлеба - шиш! Я хочу, чтоб мой Мотл имел лучшую специальность: он у меня будет механиком или, по крайней мере, хорошим слесарем. Тогда у него будет зубам работа, а от токарного ремесла - только воду дяя каши зарабатываешь да соль к хлебу, и больше ничего!
Так делил я свои свободные, а иной раз и не свободные часы между Кузнечной и другими уличками, где жчлн мои товарищи. Мне было хорошо, жилось весело. И только одно временами омрачало мою радость: а вдруг отец узнает о моем времяпрепровождении и положит этому конец.
Ох и попадет же мне от него!
Но об этом лучше было не думать...
1941
МОИ УЧИТЕЛЯ
1. ПО МЕТОДУ АБРАКАДАБРЫ
Мое образование не ограничивалось посещением хедера; отец заботился также о "светском" образовании и нанимал для этой цели разных учителей. Первым из них был Шмерл Шмаес, который обучал меня не просто древнееврейском) языку, а "древнееврейскому с грамматикой".
Свой курс Шмерл Шмаес начал с азбуки, которою заставлял меня писать зачем-то в обратном порядке.
Из сочетания в обратном порядке нескольких букв складывались какието неудобопроизносимые слова - совершенная абракадабра.
Я так долго упражнялся в этих "сочетаниях", что они начали маячить у меня перед глазами... Воплотившись в образы чудовищ, они иногда являлись мне во сне. Произносить слова наоборот вошло у меня в привычку, превратилось в своеобразный спорт.
Вместо того чтобы сказать: "Я не иду в хедер", я произносил: "Редех в уди ен я"... Вместо "до свидания" - "Яинадивсод"... Сказать своему заклятому врагу - моему ребе Мотке Цивьецкес: "Провались к чертям!" - я бы, конечно, не отважился. Но ляпнуть: "Мятреч к силаворп!" - решался. Правда, ребе все равно меня колотил, но не потому, что понимал мои слова, а просто так, за мой "цыганский язык".
От абракадабры мы перешли ко второму курсу - к списыванию. Десятки раз подряд я должен был переписывать образцовое письмо к своему отцу, составленное учителем.
В этом письме я величал отца "сияющим солнцем", "путеводной звездой", "огненным столпом во мраке", "живым источником" и тому подобными титулами, вполне достаточнымч, чтобы угодить самому церемонному китайскому мандарину Обращения "мудрый", "просвещенный", "венец главы моей" и тому подобное не в счет.
Раз в месяц письмо к отцу заменялось письмом к старшему брату или дяде. Различие, впрочем, состояло только в том, что вместо слова "отец" я писая "брат" или "дядя"
и спускал два-три восторженных эпитета.
Мне было смешно писать письма своему отцу, сидящему тут же пли в соседней комнате. Я чувствовал также всю фальшь восхваления учености дяди Гецла: я прекрасно знал, что он едва разбирается в грамоте.
Грамматика доставляла мне не больше радости, чем абракадабра. Я легко заучил спряжения глаголов, по как связать правила грамматики с разговорной речью - не знал, а у моего учителя не хватало ни терпения, ни умения разъяснить мне это,
- Ты хорошенько зазубри то, что я тебе задаю, а до сстального со временем сам дойдешь. - Поглощенный болью в печени, учитель предоставлял меня самому себе.
Пока я списывал заданный текст, он бесшумно, с грустным лицом шагал по комнате, поглаживал рукой правую сторону живота и глубоко вздыхал: "Ох-ох-ох!.."
Время от времени он склонялся над моим плечом, заглядывал в тетрадь и говорил:
- Пишешь? Ну, пиши, пиши...
И бесшумными, осторожными шагами, чтобы не растревс;кить печень, снова начинал ходить по комнате.
Заметив у меня ошибку или кляксу, он вяло, точно по обязанности, делал замечание:
- Ай-ай, нехорошо быть таким рассеянным... Смотри, что ты тут напачкал!
Часто учитель в таких случаях ограничивался глубоким вздохом, относившимся, вероятно, в гораздо большей степени к его больной печени или к некрасивой, засидевшейся в девицах дочери, чем к качеству моего письма.
По сравнению с меламедом [Меламед - учитель начальной религиозней школы] Мотке Цивьецкес, отъявленным садистом, у которого я в то время учился, Шмерл Шмаес был для меня добрым ангелом. Но наши уроки происходили поздно вечером, после целого дня, проведенного в хедере. Нередко я приходил домой обиженный, возмущенный несправедливостью по отношению ко мне, с телом, нывшим от шлепков и тумаков, которые щедрой рукой раздавал ребе. И уроки древнееврейского языка казались мне томительными и скучными, как сам Шмерл. Я на них больше зевал, нежели учился.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
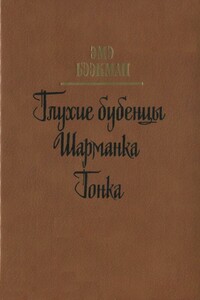
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.