Наш город - [7]
Вдруг самый большой колокол как качнется — и вылетел из колокольни и крутиться начал, и оттого по нему дорожки, дорожки такие пошли, а он выше, выше, за облака. Потом из облака и стад падать, а сам крутится.
Упал.
Гляжу, а глава на колокольне (она была в роде репы кверху хвостиком) тоже качнулась. И клеточки на ней, как на карусели, крутиться начали. И глава тоже полетела, а клеточки все скорее, скорее крутятся и тоже стали дорожками.
А глава к облакам, к облакам, а дорожки радугой, как у пузыря мыльного, когда ему лопнуть. За облака скрылась. Потом из облака — и стала падать, а радуга стала золотой, мраморной. Вот-вот лопнет глава.
Упала.
Я и себя забыл. Чувствую, что началось, а подумать-то об этом не могу.
Смотрю, а колокольня-то трык! — словно коленки у ней подкосились — и стала гармошкой складываться.
Рухнет, рухнет! Вот страшно стало. Не могу, чтоб рухнула — страшно. Закрыл я глаза — и вниз, вниз по лестнице, а сам ору:
— Начали! Начали!
Упал в шалаше на солому, ору. Не знал я, что так страшно — разносить.
Один я. Страшно одному. А тут вдруг Ленька открыл мешок и в шалаш заглядывает.
— Санька, ты чего?
Я к нему, шепчу не своим голосом:
— Начали! начали!
— Чего начали?
— Разносить начали!
— Врё!..
— Сам видел… разносят: колокольня сломалась!
— Идем!
Бежим к чердаку. С Ленькой не страшно. Мы к крыльцу — заперто.
Как же, думаю, я-то бежал?
Мы к парадному — тоже закрыто.
Вот штука! Как же — ведь я только что был тут.
А рано еще, все снят.
Вспомнил я, что только окно не заперто, через нет я и вылез тогда в огород, как проснулся. А если через окно лезть, так надо кухней в сени выйти и уже оттуда на чердак. А я не помню, чтобы я кухней бежал — это долго и поворотов много, — скоро не выбежишь. Вот чудно! Что, мне привиделось, что ли? Нет, не может того быть. Ясно, ясно видел. Да и сам чувствую, что бежал: запыхался и в ногах дрожь.
— Постой, — говорю, — я в окно. И тебе открою!
Тенька ждет.
А я смотрю: из кухни дверь на крючок заложена. Неужели я все бежал и запирал за собой? Тоже не может быть, — значит привиделось. На чердак дверь тоже на задвижке. Тихо везде — спят еще.
Приснилось, видно, мне все. Вот дурак!
Отпер Леньке.
— Иди первый.
Пускай идет, — я не виноват, если привиделось.
Добрались на чердак.
Глянул Ленька в окно, — так и влип. Ногами дрыгает.
— Гляди! Гляди!
Глянул, — чисто.
Неужто? Да быть не может! Круги темные запрыгали. Таращусь сквозь круги: чисто.
Где колокольня была и собор, — чисто. Нету. Снесли значит. Бот здорово! С Ленькой нестрашно. Смотрим мы на пустое место, не оторваться. Бело, бело. Ничего нету. Вот нагрянуло-то. И как это такое может делаться?
Смотрели мы и смотрели, а там все бело.
Тетка внизу дверями начала хлопать. Слышу кричит:
— Санька Санька! Пострел, в училище надо. Куда затесался?
За Серегой зашли и показали ему с чердака пустое место. Вот дивился! Мы то уж не дивились. Чего дивиться? И раньше знали.
Идем в училище, морось туманистая — конца улицы не видно. Дойдем, думаем до площади, вот увидим, что разнесли. А все идут — и ничего.
Пускай идут. — никому не скажем.
Повернули за угол на площадь, где собор, — нету собора. Внизу только ворота видны от колокольни. Остальное все снесли. Вот здорово.
Стали через площадь итти. Грязища. А морось с дождем холодная. Мы ближе. Собор внизу тоже цел оказался. А верха не видно — все-таки разнесли, наверно.
Серега подошел к колокольне, рукой ее шатает.
— Она здоровая, ее не разнесешь.
Дурак он, не видал, как разносили. Верха-то не видать! Наверно, все-таки разнесли.
Решили мы ждать, как туман пройдет, чтоб узнать, разнесли или не разнесли верхушку у колокольни.
С книжками-то не больно хорошо у собора шляться. Увидят — попадет еще. Мы тогда к саду городскому — утром там никого не бывает.
Морось прошла, и туман стал чуточку розовый, а все-таки верхушки у колокольни не видать — разнесли, значит.
Собор весь целый оказался. Только какой-то маленький, съеженный, словно его обидел кто. В роде как за колокольню ему обидно. Да я ведь и не видел, как собор-то рушили, я про колокольню.
А туман золотиться стал, и над колокольней блеснуло что-то.
Серега говорит:
— Крест.
А Ленька ему:
— Дурак, это от бомбы!
Только верно, теперь видно стало — крест. Не рушили, значит, и колокольню.
Скучно нам от этого стало. А Ленька чуть Серегу не отдул ранцем и ремень оборвал.
Стал я усмирять Леньку, тяну к лавке. Гляжу: с лавки мычит кто-то. Спит на лавке дяденька грязный-грязный — и пятки голые. И с обеих ног вниз на веревках какие-то тряпки болтаются. Подошли мы ближе, а это Пашкины-то бареточки-то балетные свалились, узнать нельзя. Вспомнил я, как он зайчиков этими самыми балетными бареточками раскидывал. Непонятно мне стало, как это такое может быть? Тут и шляпа Пашкина оказалась в гармошку смята, и дождем в ней намочено. Вот Пашка балда какой! Противно мне от него стало.
А Ленька разбежался, да как щелк шляпу Пашкину, так и полетела, как ворона мокрая.
Затеял он собрать камешков и Пашку отстреливать. Засели мы на березу и оттуда метим.
Почесываться стал Пашка. Ворочается. А Ленька… вот меткий!
— Вот те блоха!
— Ага! Кусается!

Этот рассказ написан совсем молодым человеком, который впоследствии стал известным художником, — Александром Николаевичем Самохваловым.В 1918 году Самохвалов вместе с другими студентами Академии художеств участвовал в «великом аврале» — массовом изготовлении революционных лозунгов к празднику Первое мая. Сроки были минимальны, и, казалось бы, немудреная эта и чисто ремесленная работа была превращена в истовое творчество, в трудовую страсть, одержимость, в напряженный поиск молодыми художниками самых выразительных и острых плакатных средств, о чем взволнованно и лаконично повествует Самохвалов, идя «по горячим следам» событий.

В этой маленькой повести рассказывается о двух друзьях детства, двух мальчиках, выросших до революции в глухом селе. Спустя много лет друзья встретились во фронтовом госпитале в суровые годы Великой Отечественной войны. После войны они встречаются вновь. Основная тема повести — честная, принципиальная дружба, воспитание в себе смелости, мужества, качеств, необходимых людям в жизни и борьбе. Повесть «Смелые люди» написана учителем Ефимом Георгиевичем Душутиным. Это — его вторая книга, изданная в Пензе.

Рассказы и повести о моряках, о Северной Двине, о ребятах, которые с малых лет приобщаются к морскому делу. Повесть «Полярная гвоздика» рассказывает о жизни ненцев.
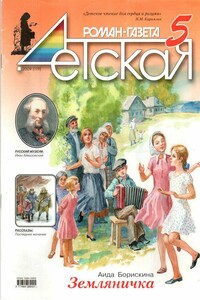
Это невыдуманные истории. То, о чём здесь рассказано, происходило в годы Великой Отечественной войны в глубоком тылу, в маленькой лесной деревушке. Теперешние бабушки и дедушки были тогда ещё детьми. Героиня повести — девочка Таня, чьи первые жизненные впечатления оказались связаны с войной.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
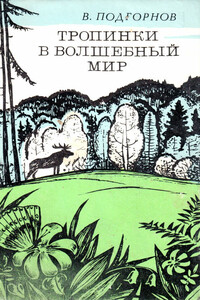
«Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней», — писал Лев Толстой. Именно так понимал счастье талантливый писатель Василий Подгорнов.Где бы ни был он: на охоте или рыбалке, на пасеке или в саду, — чем бы ни занимался: агроном, сотрудник газеты, корреспондент радио и телевидения, — он не уставал изучать и любить родную русскую природу.Литературная биография Подгорнова коротка. Первые рассказы он написал в 1952 году. Первая книга его нашла своего читателя в 1964 году. Но автор не увидел ее. Он умер рано, в расцвете творческих сил.
