Народ лагерей - [7]
«Поставьте Рыжухе загородку», — продолжал Булаки. Да не вызовет у читателя улыбки эта фраза. Она — грандиозна и свидетельствует о том, насколько способен человек противостоять стихийным ударам. Вот уже казалось бы повержен наземь, пребывает в бессилии и беспомощности, ан нет — шевелится, полон желания действовать, шлет указания. Эта фраза напоминает Наполеона, который при свете пожара в горящей Москве пишет письмо в Париж о смещении директора Комеди Франсез и назначении преемника. Здесь только масштабы иные, а смысл поступков один и тот же.
Первые полученные из дома открытки (если в них содержались добрые вести) передавались из рук в руки. Кто не получает сам, одалживает у другого, читает и перечитывает, словно адресованное лично ему, и наконец с тоской возвращает адресату. Находятся желающие выкупить чужие письма, не жалеют миски похлебки или пайки хлеба, лишь бы быть не хуже других. Как только наладилась почта, мигом возросла ценность воспоминаний.
Но первые открытки придут лишь после окончания войны, да и то не сразу. Мы же пока находимся на начальной стадии, на самой низкой отметке эмоциональной жизни, когда все воспоминания вмещаются в одном-единственном вздохе: «Ах, мама!», или «Илуш», или «Розика». Это все, что оставалось тогда в нас от Венгрии.
В глубине сумрачного барака чей-то сумрачный голос. Он раздается в отдалении, а потому стирается, тускнеет, пока доходит сюда. По звучанию его не узнала бы и родная мать, но мы мгновенно узнаем по странным обертонам, «…и ежь, сколько хожь…» Не «ешь» и «хошь», а именно так. Это Хорват, он родом из комитата Зала, оттуда эта характерная звонкость глухих согласных. В данный момент он пытается втолковать соседу, почему немецкие автоматы отказывали на морозе. Нет, масляная смазка тут ни при чем. У Хорвата на этот счет собственное соображение. «У русских автоматы куда как лучше». Сосед возражает: «Тарахтят, громыхают, будто железный лом». «Зато стреляют!» — припечатывает Хорват. Спор продолжается некоторое время.
Воскресный день, многие спят. Кто не спит, просто лежит, тупо уставясь в дощатый потолок или настил верхних нар. Спор в глубине барака продолжается, набирая силу. Стоит к нему прислушаться. Любой, чей слух привык к замедленному пульсу времени, кто даже впотьмах способен различать голоса и освоил специфику подобных бесед, тот знает, что речь идет отнюдь не об автоматах. Не о том спор и не на эту тему. Это всего лишь вступление, разминка, подобно тому как цыган для начала пробует на скрипке сложные пассажи. Прислушаемся к голосу Хорвата. О чем это он? Ну да, вот и произносит заветные слова: «Эх, сейчас бы мязца…» «Не «мясца», а «мязца», потому как в его краях выговаривают именно так.
Вот мы и у цели: у жажды поесть, у «мясца». Конечно, это случайно, поскольку спор с таким же успехом мог бы устремиться в другое русло — в тоску по родине. Тогда сейчас разговор шел бы о том, останавливается ли скорый поезд на станции Лепшень или нет, и если останавливается, то на сколько минут и забирает ли паровоз воду… Спор выплескивается за эти рамки, растекается широкими кругами. Скрипят доски верхнего яруса, кто-то садится на нарах. «Ох уж этот Хорват! — вступает в разговор невидимый собеседник. — Он и глину готов сожрать, если скажут, что это мясо…» Все, кто не спит, прислушиваются. Тотчас вмешивается и Харасти — до войны он служил контролером на сахарном заводе и разбирается во всем на свете. В Польше, повествует он, есть такие обнищалые деревни, где люди действительно едят глину. Правда, и глина там хорошего качества, голубая. Ее промывают, потом жарят на угольях и едят. В точности как мясо… С чего бы разговор ни начался, кончается он неизменно этим. Две темы — это суть всех фраз, смысл жизни: тоска по родине и муки голода, вагон-теплушка и сало с паприкой. И не известно, какое из этих чувств сильнее.
Тоска по родине — целомудренное чувство; когда думаешь о родине, невольно закрываешь глаза. Не для того, чтобы лучше увидеть ее мысленным взором, а чтобы другие не догадались о твоих мыслях. Ведь и сам себе неохотно признаешься, что тоска, которая гложет сердце, зовется тоской по родине. За исключением поэтов и политиков, обычный человек очень редко произносит такие слова, как «люблю свое отечество», «моя отчизна», «моя родина». О жизни и родине думаешь лишь в тех случаях, когда той или другой угрожает опасность.
Ностальгия — постоянная составляющая плена, она заполняет месяцы и годы, непрерывно, без промежутков. В тот день, когда возникает опасность, ей неизменно сопутствует страх: вдруг да не увижу больше Венгрию! Говорить об этом страхе не приличествует. Тоска по родине действует в глубине души, исподволь; так же неприметно заняты своим делом подземные воды. Но пусть не вводит вас в заблуждение эта скрытность.
Тоска по родине гнездится в глубине каждой мысли. В каждом вопросе, каждом отклике таится иной, извечный вопрос: «Когда же домой?» Ударение ставится на слове «когда», поскольку неопределенность срока вынуждает страдать, а суть заключена в слове «домой», ибо не воли нам не хватает, а родного дома. Из ста опрошенных лишь четверо ответили, что променяли бы родимый дом на полную свободу. Остальные девяносто шесть рвались домой — в Мишкольц, Сарсо или в Будапешт. Остановимся на этом моменте.
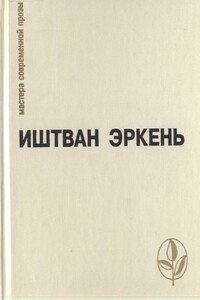
Грозное оружие сатиры И. Эркеня обращено против социальной несправедливости, лжи и обывательского равнодушия, против моральной беспринципности. Вера в торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Семья Тотов» - одна из восьми повестей, вошедших в сборник, изданный к двадцатилетнему юбилею журнала «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1955–1975.
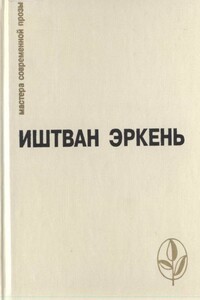
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
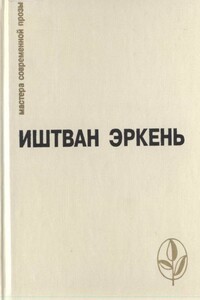
В настоящую книгу вошли важнейшие произведения видного венгерского писателя, уже издававшиеся на русском языке, а также та часть его творческого наследия, которая не публиковалась у нас в свое время.Грозное оружие сатиры И. Эркеня обращено против социальной несправедливости, лжи и обывательского равнодушия, против моральной беспринципности. Вера в торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.Издание подготовлено к печати при содействии Венгерского культурного, научного и информационного центра в Москве и госпожи Риты Майер, а также Венгерского фонда поддержки переводчиков.
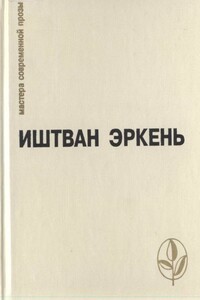
Грозное оружие сатиры И. Эркеня обращено против социальной несправедливости, лжи и обывательского равнодушия, против моральной беспринципности. Вера в торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.

Сначала мы живем. Затем мы умираем. А что потом, неужели все по новой? А что, если у нас не одна попытка прожить жизнь, а десять тысяч? Десять тысяч попыток, чтобы понять, как же на самом деле жить правильно, постичь мудрость и стать совершенством. У Майло уже было 9995 шансов, и осталось всего пять, чтобы заслужить свое место в бесконечности вселенной. Но все, чего хочет Майло, – навсегда упасть в объятия Смерти (соблазнительной и длинноволосой). Или Сюзи, как он ее называет. Представляете, Смерть является причиной для жизни? И у Майло получится добиться своего, если он разгадает великую космическую головоломку.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.