Наперекор порядку вещей... - [201]
«Extranjeros — иностранцы, — сказал кто-то. Итальянцы».
В том, что это были итальянцы, не было никакого сомнения. Никто другой не мог бы сбиться в такие живописные группки, с таким изяществом отвечать на приветствия толпы. Изящество жестов не страдало и от того, что половина бойцов тянула вино прямо из горлышек запрокинутых бутылок. Позднее мы узнали, что они были в числе тех, кто в марте одержал знаменитую победу под Гвадалахарой. Теперь, после отпуска, их перебрасывали на Арагонский фронт. Боюсь, что большая часть этих бойцов погибла несколько недель спустя под Хуэской. Те из наших раненых, кто мог ходить, поднялись, чтобы приветствовать итальянцев. Кто-то махал костылем, другой вскидывал перевязанную руку в «рот-фронтовском» салюте. Это была как бы аллегорическая картина войны: эшелон гордо катящий на фронт, — санитарный поезд с ранеными, медленно ползущий в тыл. А вид пушек на открытых платформах заставляет сердце быстрее колотиться в груди, не дает избавиться от постыдного чувства, что война, несмотря ни на что, — славное дело.
Огромный таррагонский госпиталь был полон раненых со всех фронтов. Каких только ран здесь не было! Некоторые ранения здесь лечили по последнему, видимо, слову медицины, но глядеть на это было страшно. Рану оставляли открытой и неперевязанной, шалашик из марли, натянутой на проволочную рамку, защищал ее от мух. Под марлей виднелся красный студень полузажившей раны. Здесь лежал солдат, раненый в лицо и горло. Его голову покрывал круглый марлевый шлем, в губах он сжимал маленькую трубочку, через которую дышал. Бедняга выглядел таким одиноким; он бродил по палате, глядя на нас сквозь свою марлевую клетку, не в состоянии выговорить ни слова. Я пробыл в Таррагоне три или четыре дня. Силы возвращались ко мне, и однажды, медленно переставляя ноги, я дошел до берега моря. Странно было видеть, что на набережной жизнь идет как ни в чем не бывало. Народ в элегантных кафе, упитанные буржуа купаются и загорают в шезлонгах, как если бы война шла в тысячах миль отсюда. Я стал свидетелем несчастного случая — утонул купальщик, что казалось невозможным в этом мелком и теплом море.
Наконец, через восемь или девять дней после ранения меня обследовали. В хирургической, где осматривали новоприбывших, врачи огромными ножницами взрезали гипсовые панцири, в которые заключались в прифронтовых санпунктах раненые с перебитыми ребрами и ключицами. Из громоздких гипсовых клеток выглядывали перепуганные грязные лица, заросшие многодневной щетиной. Доктор, энергичный, красивый мужчина лет тридцати, посадил меня на стул, ухватил мой язык куском шершавой марли, вытащил его так далеко как только мог, всунул мне в горло зеркальце и велел сказать «Э». Я говорил «Э» пока язык не стал кровоточить, а из глаз ручьями не потекли слезы. Тогда доктор сообщил мне, что одна из голосовых связок парализована.
— А когда вернется голос? — спросил я.
— Голос? — Никогда не вернется, — весело ответил доктор.
Оказалось, однако, что он ошибся. Примерно два месяца я мог говорить только шепотом, а потом совсем неожиданно голос вернулся. Вторая голосовая связка «компенсировала» потерю. Боль в руке была вызвана пулей, поразившей пучок шейных нервов. Эта стреляющая боль, напоминавшая невралгическую, продолжалась около месяца. Она особенно мучила по ночам, так что спать мне почти не удавалось. Пальцы правой руки были наполовину парализованы. Даже сейчас, спустя пять месяцев, указательный палец все еще малоподвижен — странный результат ранения в шею.
Моя рана была в некотором смысле достопримечательностью. Разные врачи осматривали меня, цокая от удивления языком. Один из них авторитетно заявил, что пуля прошла в «миллиметре» от артерии. Откуда он это узнал, не могу объяснить. Все, с кем я в то время имел дело — врачи, сестры, практиканты, соседи по палате — неизменно заверяли меня, что человек, получивший ранение в шею и выживший — счастливчик. Лично я не мог отделаться от мысли, что настоящий счастливчик вообще не попал бы под пулю.
В последние недели моего пребывания в Барселоне, в городе установилась атмосфера удушья, воздух был пропитан подозрениями, страхом, неуверенностью, отовсюду выглядывала едва замаскированная ненависть. Майские бои оставили неизгладимый след. С падением правительства Кабалеро власть окончательно перешла в руки коммунистов, охраной внутреннего порядка занялись министры из рядов компартии, и никто не сомневался, что они расправятся со своими политическими соперниками, как только представится малейшая возможность. Хотя я все еще не знал, что именно произойдет, было ощущение какой-то неясной опасности, чувство надвигающейся беды. Пусть даже вы не имели ничего общего с заговорщиками, обстановка заставляла вас чувствовать себя причастным к какому-то заговору. Все перешептывались в укромных уголках кафе, беспокойно озираясь вокруг — не сидит ли за соседним столиком полицейская ищейка.
Цензура печати породила множество слухов. В частности прошел слух, что правительство Негрина-Прието решило выйти из войны, согласившись на компромисс. Одно время я был склонен этому верить, ибо фашисты приближались к Бильбао, а правительство не делало ровным счетом ничего для спасения города. Барселона запестрела баскскими флагами, по кафе ходили девушки, грохоча коробками для сбора пожертвований, радио не переставая бубнило о «героических защитниках», но реальной помощи баски не получали. Порой начинало казаться, что правительство ведет двойную игру. Позднейшие события показали, что эти подозрения были напрасны, но все же Бильбао можно было, пожалуй, спасти, если бы республиканцы принялись за дело немного более энергично. Наступление на Арагонском фронте, даже неуспешное, вынудило бы Франко перебросить туда часть своих сил. Правительство дало приказ о наступлении, когда было уже слишком поздно — после падения Бильбао. C.N.T. распространяла в большом количестве листовку, предупреждавшую: «Будьте начеку!» и намекавшую, что «определенная партия» (имелись в виду коммунисты) готовит государственный переворот. Кроме того, все боялись вторжения фашистов в Каталонию. Ранее, по пути на фронт, я видел мощные укрепления, сооружавшиеся в десятках миль за линией фронта. В Барселоне всюду строились новые бомбоубежища. Часто объявлялись воздушные тревоги и предупреждения об опасности морского десанта. Как правило, тревоги были ложными, но каждый раз, когда взвывали сирены, город погружался на долгие часы в темноту, а оробевшие жители кидались в подвалы. Город кишел полицейскими агентами. Тюрьмы были переполнены заключенными, арестованными еще в дни майских боев, а кроме того, то и дело арестовывались — по одному, по двое — анархисты и члены P.O.U.M. Насколько было известно, ни одного из арестованных не судили, им не предъявляли никаких обвинений — даже в «троцкизме». Людей просто арестовывали и держали в тюрьме, обычно в камере-одиночке. Боб Смайли все еще сидел в тюрьме в Валенсии. Единственное, что мы узнали, это то, что ни представителю I.L.P. в городе, ни адвокату не позволяли увидеться с ним. Все чаще и чаще арестовывали иностранцев — бойцов интернациональной бригады и ополченцев. Обычно их бросали в тюрьму по обвинению в дезертирстве. Никто толком не знал — это характерно для обстановки, — как относиться к ополченцам — считать ли их добровольцами или солдатами регулярной армии. Несколько месяцев назад каждого, кто записывался в ополчение, заверяли, что он находится здесь только по своей доброй воле и может, если пожелает, демобилизоваться, когда настанет время его отпуска. Теперь оказалось, что правительство передумало, считает ополченцев солдатами регулярной армии и рассматривает желание вернуться домой, как дезертирство. Впрочем, даже в этом не было полной уверенности. На некоторых участках фронта командование по-прежнему удовлетворяло просьбы ополченцев о демобилизации. На границе увольнительные документы иногда признавали, а иногда — нет. В последнем случае, демобилизованных немедленно бросали в тюрьму. Число таких иностранных «дезертиров» достигло нескольких сот человек, но большинство из них было освобождено из тюрем после того, как в их родных странах поднялся шум вокруг незаконных арестов.
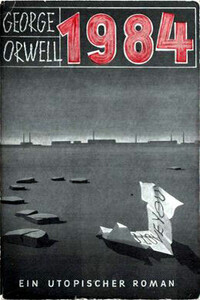
«Последние десять лет я больше всего хотел превратить политические писания в искусство», — сказал Оруэлл в 1946 году, и до нынешних дней его книги и статьи убедительно показывают, каким может стать наш мир. Большой Брат по-прежнему не смыкает глаз, а некоторые равные — равнее прочих…

В тихом городке живет славная провинциальная барышня, дочь священника, не очень юная, но необычайно заботливая и преданная дочь, честная, скромная и смешная. И вот однажды... Искушенный читатель догадывается – идиллия будет разрушена. Конечно. Это же Оруэлл.

В книгу включены не только легендарная повесть-притча Оруэлла «Скотный Двор», но и эссе разных лет – «Литература и тоталитаризм», «Писатели и Левиафан», «Заметки о национализме» и другие.Что привлекает читателя в художественной и публицистической прозе этого запретного в тоталитарных странах автора?В первую очередь – острейшие проблемы политической и культурной жизни 40-х годов XX века, которые и сегодня продолжают оставаться актуальными. А также объективность в оценке событий и яркая авторская индивидуальность, помноженные на истинное литературное мастерство.

В 1936 году, по заданию социалистического книжного клуба, Оруэлл отправляется в индустриальные глубинки Йоркшира и Ланкашира для того, чтобы на месте ознакомиться с положением дел на шахтерском севере Англии. Результатом этой поездки стала повесть «Дорога на Уиган-Пирс», рассказывающая о нечеловеческих условиях жизни и работы шахтеров. С поразительной дотошностью Оруэлл не только изучил и описал кошмарный труд в забоях и ужасные жилищные условия рабочих, но и попытался понять и дать объяснение, почему, например, безработный бедняк предпочитает покупать белую булку и конфеты вместо свежих овощей и полезного серого хлеба.

«Да здравствует фикус!» (1936) – горький, ироничный роман, во многом автобиографичный.Главный герой – Гордон Комсток, непризнанный поэт, писатель-неудачник, вынужденный служить в рекламном агентстве, чтобы заработать на жизнь. У него настоящий талант к сочинению слоганов, но его работа внушает ему отвращение, представляется карикатурой на литературное творчество. Он презирает материальные ценности и пошлость обыденного уклада жизни, символом которого становится фикус на окне. Во всех своих неудачах он винит деньги, но гордая бедность лишь ведет его в глубины депрессии…Комстоку необходимо понять, что кроме высокого искусства существуют и простые радости, а в стремлении заработать деньги нет ничего постыдного.
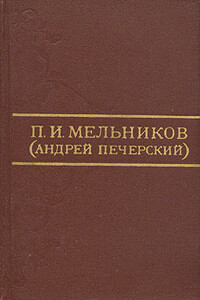
Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропроходящими: все, что написано настоящим художником, приковывает наше воображение, мы удивляемся широте познаний писателя, глубине его понимания жизни.П. И. Мельников-Печерский принадлежит к числу таких писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности, заставляющий читателя самого догадываться о том, что же он хотел сказать, заставляющий думать и переживать.Мельников П. И. (Андрей Печерский)Полное собранiе сочинений.
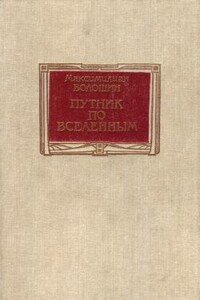
Книга известного советского поэта, переводчика, художника, литературного и художественного критика Максимилиана Волошина (1877 – 1932) включает автобиографическую прозу, очерки о современниках и воспоминания.Значительная часть материалов публикуется впервые.В комментарии откорректированы легенды и домыслы, окружающие и по сей день личность Волошина.Издание иллюстрировано редкими фотографиями.
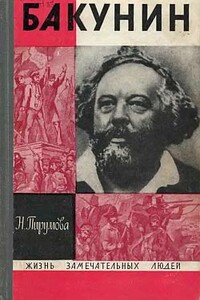
Михаил Александрович Бакунин — одна из самых сложных и противоречивых фигур русского и европейского революционного движения…В книге представлены иллюстрации.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
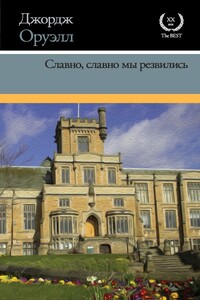
Оруэлл, будучи одним из самых ярких и неоднозначных писателей XX века, боролся со злободневными вопросами по-своему – с помощью пера и бумаги. В сборник включены его критические размышления на самые разные темы – от современной литературы и кино до поэтики и политики. Заглавное же место занимает автобиографическое эссе «Славно, славно мы резвились», в котором Оруэлл со всей откровенностью описывает непростой этап взросления и без прикрас рассказывает о своей учебе в школе Святого Киприана, язвительно осуждая лицемерную систему эдвардианского образования.
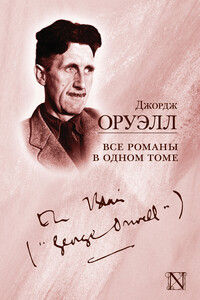
В этот сборник – впервые на русском языке – включены ВСЕ романы Оруэлла.«Дни в Бирме» – жесткое и насмешливое произведение о «белых колонизаторах» Востока, единых в чувстве превосходства над аборигенами, но разобщенных внутренне, измученных снобизмом и мелкими распрями. «Дочь священника» – увлекательная история о том, как простая случайность может изменить жизнь до неузнаваемости, превращая глубоко искреннюю Веру в простую привычку. «Да здравствует фикус!» и «Глотнуть воздуха» – очень разные, но равно остроумные романы, обыгрывающие тему столкновения яркой личности и убого-мещанских представлений о счастье.
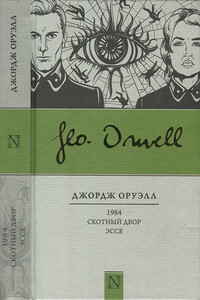
«1984» — своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда «общество потребления» — или доведенное до абсолюта «общество идеи»? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы… «Скотный двор» — притча, полная юмора и сарказма. Может ли скромная ферма стать символом тоталитарного общества? Конечно, да. Но… каким увидят это общество его «граждане» — животные, обреченные на бойню? В книгу включены также эссе разных лет — «Литература и тоталитаризм», «Писатели и Левиафан», «Заметки о национализме» и другие.
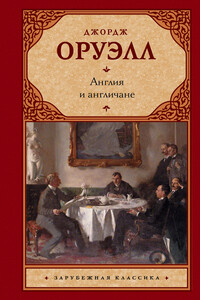
Англия. Родина Чарлза Дарвина, Уинстона Черчилля, Олдоса Хаксли… Англичане. Вежливы и законопослушны, всегда встают на защиту слабого, но верны феодальным традициям и предвзято относятся к иностранной кухне… Они нетерпимы к насилию, но при этом не видят ничего плохого в традиционных телесных наказаниях… Английский характер, сама Англия и произведения выдающихся ее умов – Редьярда Киплинга, Т.С. Элиота, Чарлза Диккенса, Генри Миллера – под пристальным вниманием Джорджа Оруэлла! Когда-то эти эссе, неизменно оригинальные, всегда очень личные, бурно обсуждались в английской прессе и обществе.
