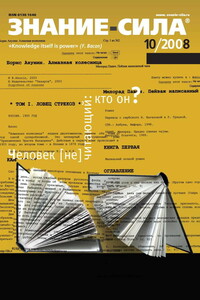Нанонауки. Невидимая революция - [3]
От нанотехнологии, бывшей еще в колыбели и только начинавшей что-то лепетать, ожидали, что она избавит промышленность от алчного поглощения природного сырья и других материалов и введет нашу цивилизацию в эру устойчивого развития[2]. Так думал тогда не только один из авторов этой книги, о том же грезили и другие исследователи. Подобно тому, как Французская революция затевалась ради третьего сословия, я надеялся, что примерно то же произойдет с, так сказать, «сословием мелким», причем на всей планете, и эта перспектива виделась мне осуществлением юношеских мечтаний. Меня увлекало нахождение все новых и новых технологий, не причинявших ущерба окружающей среде и применимых в любой и каждой отрасли промышленности. К примеру, я обратил внимание на работы Кевина Алмера, директора исследовательского отдела фирмы Genex. Он предвидел возможность производства ультраминиатюрных электронных микросхем на основе белков, синтезируемых генетически запрограммированными бактериями. Этот ученый, в сущности, предсказал появление съедобных микропроцессоров! В тот же мой список попали и работы американского химика Ари Авирама, сотрудника принадлежащих компании IBM и расположенных близ Нью-Йорка исследовательских лабораторий Т. Дж. Уотсона. Авирам предложил так уменьшить размер электронного компонента (например, транзистора), чтобы он помещался в молекуле. Он даже попытался создать электронный переключатель на одной молекуле, прерывающей электрический ток, — иначе говоря, электронный молекулярный выпрямитель, пропускающий ток только в одном направлении.
Рассуждая в том же направлении, Форрест Картер, американский химик, работавший в военно-морской исследовательской лаборатории NRL, решил, что просто уменьшать отдельные электронные компоненты — недостаточно: хорошо бы загнать весь электронный узел в несколько молекул. Или заставить скопление из нескольких молекул вести себя как усилитель или микропроцессор. Если бы это удалось, то микроэлектроника превратилась бы в «наноэлектронику», и воздействие электронной промышленности на окружающую среду стало бы более щадящим.
Кроме меня поисками альтернативных и не столь пагубных для окружающей среды технологий занимались и другие исследователи. Эрик Дрекслер, молодой инженер, трудившийся в Бостоне, в Массачусетском технологическом институте, знаменитом MIT, смог вообразить и иные варианты электронных схем молекулярного размера. В своей книге «Движители творения»[3], опубликованной в 1986 году, Дрекслер описал молекулярные машины будущего, правда, довольно отдаленного: они будут перерабатывать отходы, производить энергию и очищать воду. Эти механизмы, ужавшиеся донельзя, то есть до самых минимальных объемов, занимаемых считаными молекулами, переведут нашу цивилизацию в эру молекулярной технологии.
Но эти красивые мечтания уповали на нанотехнологию в широком смысле; иначе говоря, имелись в виду те же привычные приемы изготовления маленьких и все сильнее уменьшающихся устройств, разве что масштаб миниатюризации доводился до естественного предела: меньше молекул только отдельные атомы, ну и элементарные частицы. Дальше дороги нет — развитие упрется в неодолимую преграду и, значит, оборвется. Приходится признать, что дела пошли скорее в этом направлении, и сегодня упоминание нанотехнологии уже не будит надежд на появление промышленности, которая бы бережнее расходовала планетарные ресурсы. Напротив, обостряются опасения: а не отравит ли нас нанотехнология? А что, если она выйдет из-под нашего контроля? Мы еще вернемся к этим вопросам в главе 6. Но как же это мы дошли до жизни такой? Почему, начав со столь радужных экологических грез, мы пришли к разочарованию и недоверию? Попытаемся же разобраться, откуда взялось это явление, которое уместнее всего назвать «нанопузырем». Тогда мы, может быть, поймем, почему так менялись оценки нанотехнологий.
Казалось, что все должно пойти гладко, покатиться как сыр по маслу. Итак, в 1980-е годы мы оказались на пороге приключения по имени «Нанотехнология». Нашлись ученые и исследователи, к числу которых принадлежал и я, решившие, что молекулы могут выполнять работу электронных схем, и тем самым начавшие возделывать ту ниву молекулярной электроники, на которую первым вторгся Ари Авирам. И тут как раз, очень кстати, появился совершенно невероятный по своим возможностям инструмент: изобретенный в 1981 году туннельный микроскоп не только «видел» атомы и молекулы, но и, что куда поразительнее и много нужнее, умел «передвигать» их, то есть позволял манипулировать отдельными атомами и по одному приставлять их друг к другу; эта способность нового прибора была обнаружена в 1989 году. Тогда уже имелись результаты первых экспериментов с одиночными молекулами. Большого шума опыты эти, однако, не наделали, и лучшие ученые зачастую поглядывали на туннельный микроскоп свысока и с недоверием. Особенно этот скептицизм был силен в Европе. Сама же нанотехнология оставалась занятием потайным, а то и засекреченным. В 1995 году манипуляциями на атомном уровне занимались только пять коллективов: три в США, один в Европе и один в Японии. Мне повезло: я успел поработать с Ари Авирамом, а потом попал в команду первопроходцев, одну из самых первых. Вожаком там был Джим Гимжевски, из лаборатории
![[Не]правда о нашем теле. Заблуждения, в которые мы верим](/storage/book-covers/28/286d3f6b7a977cd59136911f7f4c20b3b237d5d0.jpg)
Знать правду весьма полезно, особенно о своей жизни и своем здоровье. Это экономит силы, время и деньги, которых можно лишиться, гоняясь за химерами. Мифы о здоровье окружают нас везде, и их своевременное развенчание — залог полноценной жизни! В этой книге Андрей Сазонов собрал тридцать распространенных медицинских мифов, ложных утверждений, о который все не только слышали, но и успешно претворяли в жизнь. Какие продукты сжигают жиры, и есть ли смысл в перекусах? Вода обычная и минеральная — нужно ли нам выпивать 8 стаканов ежедневно? Седина от стресса и аллергия от тополиного пуха — где правда? Каждый развенчанный миф — шаг к осознанию того, как действительно нужно следить за своим здоровьем. Давайте жить качественно! Лечится тем, что помогает, покупать то, что нужно, делать то, что идет нам на пользу. Ударим по мифам научным подходом!
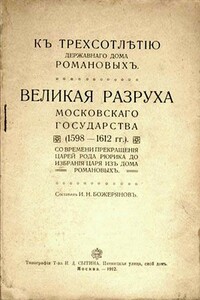
В русской истории 14 лет, прошедших с 1598 по 1612 год, называют «разрухою» или «Смутным временем». «Смятения» Русской земли, или «Московская трагедия», как писали о ней иностранцы, началась с прекращением династии Рюриковичей, т. е. после кончины Царя Фёдора Ивановича, и кончилась, когда земские чины, собравшиеся в Москве в начале 1613 г., избрали на престол в Цари Михаила Фёдоровича, родоначальника новой династии Дома Романовых.
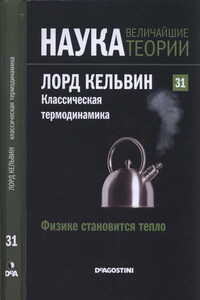
Под именем лорда Кельвина вошел в историю британский ученый XIX века Уильям Томсон, один из создателей экспериментальной физики. Больше всего он запомнился своими работами по классической термодинамике, особенно касающимися введения в науку абсолютной температурной шкалы. Лорд Кельвин сделал вклад в развитие таких областей, как астрофизика, механика жидкостей и инженерное дело, он участвовал в прокладывании первого подводного телеграфного кабеля, связавшего Европу и Америку, а также в научных и философских дебатах об определении возраста Земли.
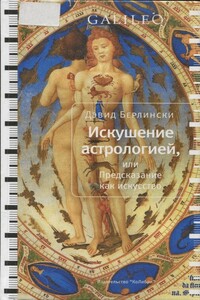
Книга посвящена истории астрологии, заблуждениям и идеям, ее питавшим.Кого только не встретишь на страницах этой книги! Тут и Птолемей, и Коперник, и Тихо Браге, и Иоганн Кеплер.Сегодняшняя наука вынесла свой вердикт. Астрология признана лженаукой, но почему человечество никак не может забыть о ней, почему астрологические прогнозы по-прежнему привлекают внимание самых разных людей? Видно, желание заглянуть в будущее неистребимо, и так хочется верить, что звезды, таинственно мерцающие в небесах, все о нас знают…

Знания всегда давались человечеству нелегко. В истории науки было все — драматические, а порой и трагические эпизоды соседствуют со смешными, забавными моментами. Да и среди ученых мы видим самые разные характеры. Добрые и злые, коварные и бескорыстные, завистливые и честолюбивые, гении и талантливые дилетанты, они все внесли свой вклад в познание мира, в котором мы живем.Уолтер Гратцер рассказывает о великих открытиях и людях науки честно и объективно, но при этом ясно: он очень любит своих героев и пишет о них с большой симпатией.
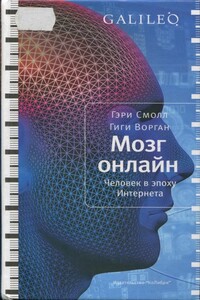
Сегодня мы уже не можем себе представить жизнь без компьютеров и Интернета. Каждый день возникают все новые и новые гаджеты, которые во многом определяют наше существование — нашу работу, отдых, общение с друзьями. Меняются наши реакции, образ мышления. Известный американский психиатр, профессор Лос-Анджелесского университета и директор Научного центра по проблемам старения Гэри Смолл вместе со своим соавтором (и женой) Гиги Ворган утверждают: мы наблюдаем настоящий эволюционный скачок, и произошел он всего за пару-тройку десятилетий!В этой непростой ситуации, говорят авторы, перед всем человечеством встает трудная задача: остаться людьми, не превратившись в придаток компьютера, и не разучиться сопереживать, общаться, любить…
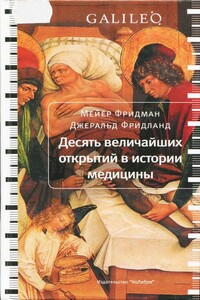
В истории медицины были открытия, без которых она никогда не стала бы современной наукой, способной порой творить настоящие чудеса и вылечивать даже самые тяжелые болезни. Именно о таких открытиях и рассказывают известные американские врачи кардиолог Мейер Фридман и радиолог Джеральд Фридланд. Повествуя о выдающихся ученых, об их жизни и об их времени, об их предшественниках и последователях. авторы создают яркие образы великого анатома Везалия, открывателя мира бактерий Левенгука, борцов с инфекционными болезнями Пастера и Коха.