Нации и национализм после 1780 года - [46]
Сходным образом и история каталонского автономизма как (консервативного) культурно-языкового движения едва ли уходит своими корнями глубже 1850-х годов, а фестиваль Joes Florals (аналогичный валлийскому Eisteddfodau) был возрожден не ранее 1859 года. Каталонский национализм занялся языковым вопросом не раньше середины 1880-х годов,[190] а сам язык обрел твердые и авторитетные нормы только в XX веке.[191] Считается, что баскский национализм отставал в своем развитии от каталонского примерно на тридцать лет, хотя идеологический сдвиг баскского автономизма от вопросов защиты или реставрации старинных феодальных привилегий к языковой и расовой тематике был довольно резким: в 1894 году, менее чем через двадцать лет после окончания Второй Карлистской войны, Сабино Арана основал Баскскую Национальную партию (PNV) — и, между прочим, придумал прежде не существовавшее баскское название страны («Euskadi»).[192]
На другом конце Европы национальные движения прибалтийских народов к началу последней трети XIX века едва вышли из своей первой (культурной) фазы, а на далеких Балканах, где после 1870 года встал кровавый македонский вопрос, мысль о том, что обитавшие на этой земле национальности следует различать по их языку, менее всего приходила на ум государственным мужам Сербии, Греции, Болгарии и Блистательной Порты, оспаривавшим друг у друга данную территорию.[193] Жителей Македонии различали по их вере, а иногда притязания на ту или иную ее часть основывались на истории (от древней до средневековой) или на этнографических аргументах (общие обряды и обычаи). Полем битвы для филологов-славистов Македония стала лишь в XX веке, когда греки, неспособные конкурировать на почве языка, перенесли акцент на воображаемое единство этноса.
В то же самое время — примерно во второй половине века — этнический национализм получил громадную поддержку: на практике — благодаря все более массовой миграции народов; в теории — вследствие преобразования, которое претерпело ключевое для социологии XIX века понятие «расы». Во-первых, давно и прочно утвердившееся деление человечества на «расы», отличающиеся по цвету кожи, превратилось теперь в более сложную систему «расовых» признаков, по которым различались народы, имевшие примерно одинаковую светлую кожу, например, «семиты» и «арийцы», а среди последних — нордическая, альпийская и средиземноморская группы. Во-вторых, дарвинистский эволюционизм, дополненный впоследствии тем, что стало известно под именем генетики, представил расизму чрезвычайно убедительную, на первый взгляд, систему «научных» аргументов, оправдывавших дискриминацию и даже, как выяснилось затем, изгнание и массовое уничтожение «инородцев». Все это были сравнительно поздние феномены. Так, антисемитизм приобрел специфически «расовый» (в отличие от культурно-религиозного) характер лишь около 1880 годы; главнейшие проповедники германского и французского расизма (Лапуж, X. С. Чемберлен) действовали в 1890-е гг., а «нордическая» тема вошла в расистские и прочие теории лишь около 1900 г.[194]Связь расизма с национализмом вполне очевидна. «Расу» и язык, как в случае с «арийцами» и «семитами», легко смешивали, — к возмущению добросовестных ученых, например, Макса Мюллера, специально указывавшего, что «раса» есть понятие генетическое и потому не может быть выведена из языка, который по наследству не передается. Более того, существует явная аналогия между, с одной стороны, характерным для расистов настойчивым требованием сохранения расовой чистоты и их ужасом перед пагубными последствиями смешанных браков, а с другой — упорным желанием очень многих (если не большинства) разновидностей лингвистического национализма очистить национальный язык от чужеродных элементов. Англичане, гордившиеся «нечистокровностью» своего происхождения (бритты, англосаксы, скандинавы, норманны, шотландцы, ирландцы и т. д.) и смешанным характером своего языка, представляли весьма необычный для XIX века феномен. Но еще теснее сближали «расу» и «нацию» привычка употреблять эти слова как фактические синонимы и бесконечные умствования на предмет «расового»/«национального» характера, в ту пору чрезвычайно модные. Так, один французский автор отметил, что незадолго до заключения англо-французской Entente Cordiale 1904 года согласие между этими государствами объявлялось решительно невозможным по причине «наследственной вражды» между их народами.[195] Таким образом, национализм лингвистический и национализм этнический поддерживали и усиливали друг друга.
Не удивительно, что в 1870–1914 гг. национализм делал такие быстрые успехи. Он явился естественным следствием социальных и политических перемен — не говоря уже об общей международной ситуации, доставлявшей массу предлогов для враждебных по отношению к иностранцам манифестов. Три социальных процесса существенно расширили ту сферу, где складывались новые способы превращения «воображаемых» и даже реальных общностей в национальности: сопротивление традиционалистов, напуганных натиском современности; быстрый рост в урбанизирующихся обществах развитых стран новых и вполне «нетрадиционных» классов и слоев и, наконец, беспрецедентные миграции, разбросавшие по всему свету диаспоры представителей разных народов, каждая из которых оставалась чуждой как местным жителям, так и прочим группам переселенцев, ибо не успела еще выработать навыков сосуществования. Масштаб и темп свойственных эпохе перемен сами по себе позволяют понять, почему при подобных условиях поводы для трений между различными группами умножились, — даже если мы оставим в стороне ужасы «Великой депрессии», так часто потрясавшие в те годы существование людей бедных и необеспеченных, а также тех, чье экономическое положение было непрочным. И для того, чтобы национализм проник в политику, требовалось только одно: группы мужчин и женщин, видевшие в себе в определенном смысле «руританцев» или воспринимавшиеся подобным образом другими, должны были почувствовать желание и готовность поверить, что их недовольство проистекает из отношения к «руританцам» как к людям второго сорта — отношения, часто совершенно очевидного, — со стороны других национальностей (или по сравнению с другими национальностями) или же со стороны не-«руританских» правительств и господствующих классов. Так или иначе, около 1914 г. наблюдатели уже были склонны удивляться тому, что некоторые группы населения Европы все еще казались совершенно невосприимчивыми к какой-либо национальной пропаганде, хотя это и не предполагало с необходимостью их, наблюдателей, приверженности к определенной националистической программе. Те граждане США, которые являлись иммигрантами, не требовали от федерального правительства лингвистических или каких-либо иных уступок для своей национальности, однако каждый политик-демократ прекрасно знал, что обращение к ирландцам как к ирландцам или к полякам как к полякам непременно принесет свои плоды. Выше мы убедились, что важнейшими политическими переменами, превратившими потенциальную восприимчивость к национальным лозунгам в их реальное восприятие, стали общая демократизация политики во все большем числе государств, а также создание современного типа бюрократического государства, способного активно влиять на своих граждан и мобилизовывать их для собственных целей. И все же констатация растущего участия масс в политической жизни позволяет нам лишь заново сформулировать проблему народной поддержки националистических движений, но не решить ее по существу. Нам нужно выяснить, что конкретно означали национальные лозунги в политике и был ли их смысл одинаковым для различных групп избирателей; как они эволюционировали, при каких условиях они могли взаимодействовать с иными идеями, способными увлечь граждан, а при каких оказывались с ними несовместимы, и, наконец, почему в одних случаях они добивались преобладания над прочими лозунгами и теориями, а в других — терпели фиаско. Ответить на эти вопросы нам помогает отождествление нации с языком, ибо лингвистический национализм существенным образом нуждается в контроле над государством или, по крайней мере, в официальном признании определенного языка. Вполне очевидно, что эти задачи не являются одинаково важными для различных государств и национальностей (или для различных групп и слоев внутри одного государства или национальности). Но в любом случае можно утверждать, что в основе языкового национализма лежат отнюдь не проблемы культуры или средств общения, но вопросы власти и статуса, политики и идеологии. Ведь если бы решающим аргументом были потребности культуры или массовой коммуникации, то еврейский (сионистский) национализм не предпочел бы современный иврит — язык, на котором тогда еще никто не говорил и который в своем произношении отличался от иврита европейских синагог. Сионисты отвергли идиш, на котором говорили 95% ев-реев-ашкенази Восточной Европы и евреев, эмигрировавших на Запад, — т. е. значительное большинство всего мирового еврейства. Высказывалось мнение, что развившаяся к 1935 году богатая и разнообразная литература на идише, доступная десяти миллионам носителей этого языка, позволяла считать его «одним из ведущих „литературных“ языков эпохи».

Эрик Хобсбаум: «я рассматриваю вопрос, который поразительным образом оказался оставленным без внимания: не история французской революции как таковой, а история ее осмысления и толкования, ее влияния на события истории XIX и XX веков...В настоящей книге я касаюсь трех аспектов ретроспективного анализа. Во-первых, я рассматриваю французскую революцию как буржуазную, на самом деле в некотором смысле как прототип буржуазных революций. Затем я рассматриваю ее как модель для последующих революций, в первую очередь революций социальных, для тех, кто стремился эти революции совершить.

“Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991)” – одна из главных работ известного британского историка-марксиста Эрика Хобсбаума. Вместе с трилогией о “длинном девятнадцатом веке” она по праву считается вершиной мировой историографии. Хобсбаум делит короткий двадцатый век на три основных этапа. “Эпоха катастроф” начинается Первой мировой войной и заканчивается вместе со Второй; за ней следует “золотой век” прогресса, деколонизации и роста благополучия во всем мире; третий этап, кризисный для обоих полюсов послевоенного мира, завершается его полным распадом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Русская революция, ее последствия и ее сложные взаимосвязи являются основной темой третьего тома «Истории марксизма».

«Разломанное время», последняя книга одного из самых известных историков нашего времени Эрика Хобсбаума, в полной мере отражает оригинальность его критического взгляда, фундаментальное знание истории культуры, структурную четкость и страстную, емкую манеру изложения. Анализируя самые разные направления и движения в искусстве и обществе – от классической музыки до художественного авангарда 1920-х, от модерна до поп-арта, от феминизма до религиозного фундаментализма, Хобсбаум точно определяет поворотные моменты эпох и устанавливает их взаимосвязь. Сочетание левых убеждений и глубинной связи с культурой до- и межвоенной Центральной Европы во многом объясняются биографией Хобсбаума: ровесник революции 1917 года, он вырос в еврейской семье в Берлине и Вене, с приходом нацистов эмигрировал в Великобританию, где окончил Кембридж и вступил в Компартию. Его резкие высказывания нередко вызывали споры и негодование.

Многотомное издание «История марксизма» под ред. Э. Хобсбаума (Eric John Ernest Hobsbawm) вышло на нескольких европейских языках с конца 1970-х по конец 1980-х годов (Storia del Marxismo, História do Marxismo, The History of Marxism – присутствуют в сети). В 1981 – 1986 гг. в издательстве «Прогресс» вышел русский перевод с итальянского под общей редакцией и с предисловием Амбарцумова Е.А. Это издание имело гриф ДСП, в свободную продажу не поступало и рассылалось по специальному списку (тиражом не менее 500 экз.). Русский перевод вышел в 4-х томах из 10-ти книг (выпусков)

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.
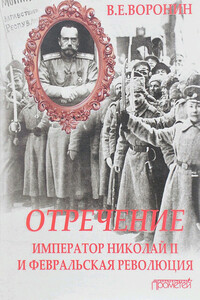
Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.
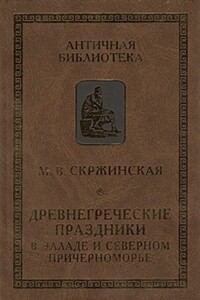
Книга представляет первый опыт комплексного изучения праздников в Элладе и в античных городах Северного Причерноморья в VI-I вв. до н. э. Работа построена на изучении литературных и эпиграфических источников, к ней широко привлечены памятники материальной культуры, в первую очередь произведения изобразительного искусства. Автор описывает основные праздники Ольвии, Херсонеса, Пантикапея и некоторых боспорских городов, выявляет генетическое сходство этих праздников со многими торжествами в Элладе, впервые обобщает разнообразные свидетельства об участии граждан из городов Северного Причерноморья в крупнейших праздниках Аполлона в Милете, Дельфах и на острове Делосе, а также в Панафинеях и Элевсинских мистериях.Книга снабжена большим количеством иллюстраций; она написана для историков, археологов, музейных работников, студентов и всех интересующихся античной историей и культурой.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Эта книга — не учебник. Здесь нет подробного описания устройства разных двигателей. Здесь рассказано лишь о принципах, на которых основана работа двигателей, о том, что связывает между собой разные типы двигателей, и о том, что их отличает. В этой книге говорится о двигателях-«старичках», которые, сыграв свою роль, уже покинули или покидают сцену, о двигателях-«юнцах» и о двигателях-«младенцах», то есть о тех, которые лишь недавно завоевали право на жизнь, и о тех, кто переживает свой «детский возраст», готовясь занять прочное место в технике завтрашнего дня.Для многих из вас это будет первая книга о двигателях.
