Начала и концы - [16]
Теперь можно вернуться к Достоевскому и его “идеям”, можно безбоязненно называть их теми именами, которых они заслуживают. Ибо хотя Достоевский и гениальный писатель, но это не значит, что мы должны забывать о наших насущных нуждах. Ночь имеет свои права, а день — свои. Достоевский хотел быть пророком, хотел, чтобы его слушали и кричали ему вслед “Осанна”, ибо, повторяю, он полагал, что если когда-либо кому-либо кричали осанна, то нет никакого основания отказывать ему, Достоевскому, в этой чести. Вот причина, почему в 70-х годах он выступает в новой роли проповедника христианства и даже не христианства, а православия.
Обращаю еще раз внимание на то далеко не случайное обстоятельство, что проповедь совпала с самым “светлым периодом” его жизни. Прежний бездомный кочевник, бедняк, не знавший, где преклонить голову, обзавелся семьей, собственным домом, даже деньгами (жена прикапливала). Неудачник стал знаменитостью. Каторжник — полноправным гражданином. Подполье, куда еще недавно и навсегда, как можно было думать, загнала его судьба, кажется старой фантасмагорией, никогда не бывшей действительностью. Там, в каторге и подполье, родилась и долго жила великая жажда Бога, там была великая борьба, борьба на жизнь, и на смерть, там впервые производились те новые и страшные опыты, которые сроднили Достоевского со всем, что есть на земле мятущегося и неспокойного. То, что пишет Достоевский в последние годы своей жизни (не только “Дневник писателя”, но и “Братья Карамазовы”), имеет ценность лишь постольку, поскольку там отражается прошлое Достоевского. Нового дальнейшего шага он уже не сделал. Как был, так и остался накануне великой истины. Но прежде этого было ему мало, он жаждал дальнейшего, а теперь он не хочет бороться и не умеет объяснить ни себе, ни другим, что собственно с ним происходит. Он продолжает симулировать борьбу — да, сверх того, он как будто бы окончательно победил и требует, чтоб победа была признана общественным мнением. Ему хочется думать, что канун уже прошел, что наступил настоящий день. А каторги и подполья, напоминающих, что день не настал, уже нет. Налицо все данные для полной иллюзии победы — подбери только слова и проповедуй! Достоевский ухватился за православие. Почему не за христианство? Да потому, что христианство не для того, у кого дом, семья, достаток, слава, отечество. Христос говорил: все покинь и следуй за мной. А Достоевский боится уединения, он хочет быть пророком для людей, современных, оседлых людей, для которых христианство в его чистом виде, неприспособленном к условиям культурного, государственного существования, не годится. Ну как христианину брать Константинополь, выселять из Крыма татар, переводить всех славян на положение поляков и т. д. и т. д. — всех проектов Достоевского и “М. В.” не перечислишь. И вот, прежде, чем признать Евангелие — нужно истолковать его...
Как это ни странно, но приходится признать, что в литературе мы не встречаем никого, кто бы принимал Евангелие целиком, без истолкований. Кому нужно брать Константинополь по Евангелию, кому оправдать существующий порядок, кому возвысить себя или унизить врага — и каждый считает себя вправе урезывать или даже дополнять текст Писания. Разумеется, здесь я имею в виду лишь тех, кто на словах, по крайней мере, признает Божественное происхождение Нового Завета. Ибо тот, кто видит в Евангелии лишь одну из более или менее замечательных книг своей библиотеки — тот, конечно, вправе производить над ним какие угодно критические операции.
Но вот вам Толстой, Достоевский, Вл. Соловьев. У нас существует мнение, особенно поддержанное и развитое новейшей критикой, что только Толстой рационализировал христианство, Достоевский же и Соловьев принимали его во всей его мистической полноте, не давая разуму права отделять в Евангелии истину от лжи. Я нахожу это мнение ошибочным. Именно Достоевский и Соловьев боялись признать Евангелие источником познания и гораздо более доверяли собственному разуму и житейскому опыту, чем словам Христа. Если был у нас человек, который хотя отчасти рискнул принять загадочные и явно опасные слова евангельских заповедей — то это Лев Толстой. Сейчас объяснюсь.
Толстой, говорят нам, пытался в своих заграничных сочинениях объяснить понятным для человеческого ума способом евангельские чудеса. Достоевский же и Соловьев охотно принимали на веру необъяснимое. Но обыкновенно евангельские чудеса привлекают к себе наименее верующих людей. Ибо повторить чудеса — невозможно, а раз так, то, стало быть, тут достаточно наружной веры, т. е. одного словесного утверждения. Говорит человек, что верит в чудеса — репутация религиозности сделана, для себя и для других. А для остальной части Евангелия остается “толкование”. Например, о непротивлении злу. Нечего говорить, что учение о непротивлении злу есть самое страшное, а вместе с тем, самое иррациональное и загадочное из всего, что мы читаем в Евангелии. Все наше разумное существо возмущается при мысли, что злодею оставляется полная материальная свобода для совершения его злодейских дел. Как позволить разбойнику на твоих глазах убить неповинного ребенка и не обнажить меча?! Кто вправе, кто мог заповедать такое возмутительное предписание? Это повторяет и Соловьев, и Достоевский, один в тайной, другой в открытой полемике против Толстого. И так как все-таки в Евангелии прямо сказано “не противься злому”, то оба они, верующие в чудеса, вдруг вспоминают о разуме и обращаются к его свидетельству — зная, что разум, конечно, безусловно отвергнет какой бы то ни было смысл в заповеди. Иначе говоря, они повторяют о Христе слова сомневавшихся евреев: кто Он такой, что говорит, как власть имеющий? Бог повелел Аврааму принести в жертву своего сына. Авраам, хотя его разум, человеческий разум, отказывался признать понятный смысл в жестоком приказании, все-таки приготовился поступить по слову Божию и не пытался хитроумным толкованием снять с себя тяжелую, нечеловеческую обязанность. Достоевский же и Соловьев, как только требования Христа не встречают оправдания в их разуме, отказываются исполнять их. А говорят, что веруют и в воскресение Лазаря, и в излечение паралитиков, и во все прочее, о чем повествуют апостолы. Почему же их вера оканчивается как раз там, где она начинает обязывать? Почему вдруг понадобился разум, тогда как о Достоевском мы доподлинно знаем, что в свое время он затем именно и пришел к Евангелию, чтоб освободиться от власти разума? Но то было время подполья — а теперь наступил светлый период его жизни. Соловьев же подполья никогда, видно, и не знал. Только Толстой смело и решительно пробует испытать не в мыслях только, а отчасти и в жизни истинность христианского учения. Безумно не противиться злу с человеческой точки зрения — он это так же хорошо знает, как Достоевский, Соловьев и все прочие многочисленные его оппоненты. Но в Евангелии он именно ищет божественного безумия — ибо человеческий разум его не удовлетворяет. Толстой стал следовать Евангелию в тот совсем не светлый период своей жизни, когда его преследовали образы Ивана Ильича и Позднышева. Тут вера в чудеса, абстрактная, оторванная от жизни — ни к чему. Нужно ради веры отдать все, что есть у тебя самого дорогого — сына на заклание. Кто Он такой, что говорил, как власть имеющий? Нельзя ныне проверить, точно ли Он воскресил Лазаря и насытил несколькими хлебами тысячную толпу. Но, исполнив без колебания Его заповеди, можно узнать, дал ли Он нам истину... Так было у Толстого, и он обратился к Евангелию, единственному и подлинному источнику христианства. Достоевский же обратился к славянофилам и их религиозно-государственным учениям. Непременно православие, а не католичество, не лютеранство и даже не просто христианство. И затем — самобытная идея: Russland, Russland über alles. Толстой не умел ничего предсказать в истории, но ведь он почти явно и не вмешивается в историческую жизнь. Для него наша действительность не существует: он весь сосредоточился в загадке, заданной Богом Аврааму. Достоевский же хотел во что бы то ни стало предсказывать, постоянно предсказывал и постоянно ошибался. Константинополя мы не взяли, славян не объединили, и даже татары до сих пор живут в Крыму. Он пугал нас, что в Европе прольются реки крови из-за классовой борьбы, а у нас, благодаря нашей русской всечеловеческой идее, не только мирно разрешатся наши внутренние вопросы, но еще найдется новое, неслыханное доселе слово, которым мы спасем несчастную Европу. Прошло четверть века. В Европе пока ничего не случилось. Мы же захлебываемся, буквально захлебываемся в крови. У нас душат не только инородцев, славян и не славян, у нас терзают своего же брата, несчастного, изголодавшегося, ничего не понимающего русского мужика. В Москве, в сердце России, расстреливали женщин, детей и стариков. Где же русский всечеловек, о котором пророчествовал Достоевский в Пушкинской речи? Где любовь, где христианские заповеди? Мы видим одну “государственность”, из-за которой боролись и западные народы — но боролись менее жестокими и антикультурными средствами. России опять придется учиться у Запада, как уже не раз приходилось учиться... И Достоевский гораздо лучше сделал бы, если бы не пытался пророчествовать.
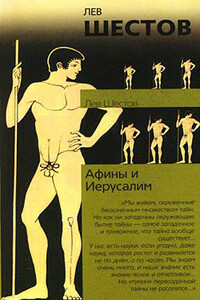
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной; концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.

Автор выражает глубокую признательность Еве Иоффе за помощь в работе над книгой и перепечатку рукописи; внучке Шестова Светлане Машке; Владимиру Баранову, Михаилу Лазареву, Александру Лурье и Александру Севу — за поддержку автора при создании книги; а также г-же Бланш Бронштейн-Винавер за перевод рукописи на французский язык и г-ну Мишелю Карассу за подготовку французского издания этой книги в издательстве «Плазма»,Февраль 1983 Париж.
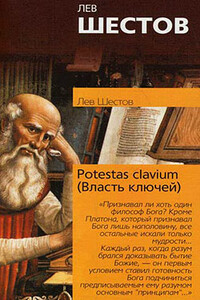
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.«Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным “принципам”…».

Лев Шестов (настоящие имя и фамилия – Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-экзистенциалист и литератор.Статья «Умозрение и Апокалипсис» посвящена религиозной философии Владимира Соловьева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новой книге автор Н. Мальцев, исследуя своими оригинальными духовно-логическими методами сотворение и эволюцию жизни и человека, приходит к выводу, что мировое зло является неизбежным и неустранимым спутником земного человечества и движущей силой исторического процесса. Кто стоит за этой разрушающей силой? Чего желают и к чему стремятся силы мирового зла? Автор убедительно доказывает, что мировое зло стремится произвести отбор и расчеловечить как можно больше людей, чтобы с их помощью разрушить старый мир, создав единую глобальную империю неограниченной свободы, ведущей к дегенерации и гибели всего человечества.

В атмосфере полемики Боб Блэк ощущает себя как рыба в воде. Его хлебом не корми, но подай на съедение очередного оппонента. Самые вроде бы обычные отзывы на книги или статьи оборачиваются многостраничными эссе, после которых от рецензируемых авторов не остаётся камня на камне. Блэк обожает публичную дискуссию, особенно на темы, в которых он дока. Перед вами один из таких примеров, где Боб Блэк, юрист-анархист, по полочкам разбирает проблему преступности в сегодняшнем и завтрашнем обществе.
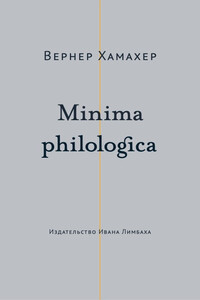
Вернер Хамахер (1948–2017) – один из известнейших философов и филологов Германии, основатель Института сравнительного литературоведения в Университете имени Гете во Франкфурте-на-Майне. Его часто относят к кругу таких мыслителей, как Жак Деррида, Жан-Люк Нанси и Джорджо Агамбен. Вернер Хамахер – самый значимый постструктуралистский философ, когда-либо писавший по-немецки. Кроме того, он – формообразующий автор в американской и немецкой германистике и философии культуры; ему принадлежат широко известные и проницательные комментарии к текстам Вальтера Беньямина и влиятельные работы о Канте, Гегеле, Клейсте, Целане и других.

Что такое правило, если оно как будто без остатка сливается с жизнью? И чем является человеческая жизнь, если в каждом ее жесте, в каждом слове, в каждом молчании она не может быть отличенной от правила? Именно на эти вопросы новая книга Агамбена стремится дать ответ с помощью увлеченного перепрочтения того захватывающего и бездонного феномена, который представляет собой западное монашество от Пахомия до Святого Франциска. Хотя книга детально реконструирует жизнь монахов с ее навязчивым вниманием к отсчитыванию времени и к правилу, к аскетическим техникам и литургии, тезис Агамбена тем не менее состоит в том, что подлинная новизна монашества не в смешении жизни и нормы, но в открытии нового измерения, в котором, возможно, впервые «жизнь» как таковая утверждается в своей автономии, а притязание на «высочайшую бедность» и «пользование» бросает праву вызов, с каковым нашему времени еще придется встретиться лицом к лицу.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.
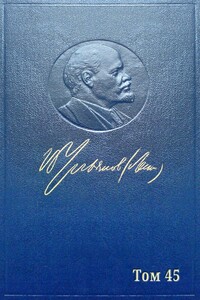
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.