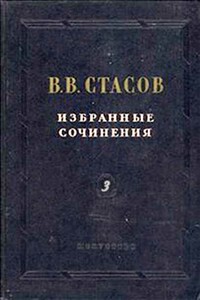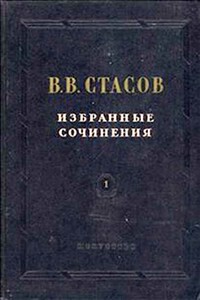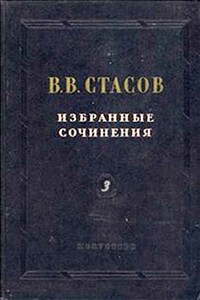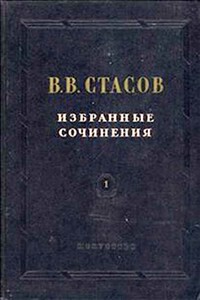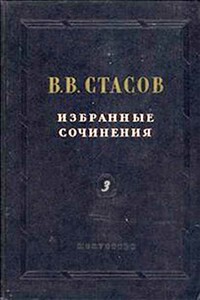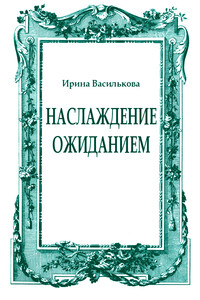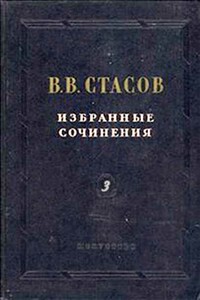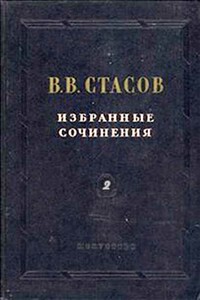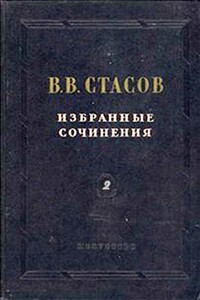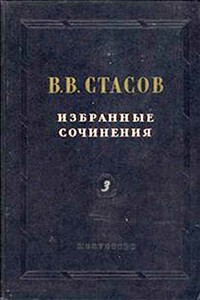Наружный вид московской выставки представляет что-то красивое. Когда подъезжаешь к ней, издали видишь только группы больших и маленьких домиков, рассеянных на одном куске громадного необозримого Ходынского поля, постройки то низенькие, то высокие, с возвышающимися там и сям куполами и островерхими цветными башенками. Все вместе — точно раскинувшийся в долине маленький городок, живописно построенный. Такого красивого общего вида не было ни у всероссийской петербургской выставки в 1870 году, ни у политехнической московской выставки 1872 года, да и быть не могло: петербургская выставка произошла тогда в Соляном городке, старинном запущенном здании вроде казармы или амбара, с казенным и несносным видом, куда покойный Гартман пристроил только наскоро срединный фасад в европейском приличном виде, с колоннами, арками, карнизами и статуями в греческих туниках — все больше от стыда и для приличия, чтобы хоть немножко было уж не так совестно перед входящею публикой; но и он, со всем своим талантом, этою красивою бляхой не прикрыл скудости и немощи целого остального фасада, со всех его четырех сторон. Все красивое архитектурное собралось внутри. Московская выставка 1872 года была устроена в Кремлевском саду, по нескольким направлениям и с несколькими поворотами за углы, да притом еще раскинулась своими многочисленными и разнокалиберными постройками среди целого леса деревьев — значит никакого общего вида не могла иметь.
Нынешняя выставка первая выступает с очень изящным и живописным общим видом издали. Когда ближе подъезжаешь, впечатление на одну секунду изменяется: правда, здания — цветные, ярко раскрашены узорами и рисунками, но все-таки перед вами спина зданий, изнанка их, и нет никакого общего, крупного и величавого входа, громадного и великолепного портала, достойного представителя тех чудес и сокровищ, какие накоплены внутри выставки. Входы, с какой хотите стороны, — мизерны, приземисты и невзрачны; они столько же ничего не говорят, как всегдашние входы в любую оранжерею.
Но это неблагоприятное впечатление только на одну секунду. Едва вы войдете на выставку, вас приятно поразят крупные, стройные массы. Широко, светло — вот что вам раньше всего представится. Над головой высоко поднимаются железные тонкие ребра арок; вместо потолков и кровель — сплошные массы стекла, сквозь которые так нестерпимо блещет горячее июньское солнце, что почти везде (всего более в художественном отделе) принуждены были подвесить под эту стеклянную крышу громадные полотнища холстинных вуалей, и сквозь них распространяется свет необыкновенно приятный и свежий. Правда, у этих зал внутри нет того оригинального архитектурного изящества, тех чудесно-красивых общих форм, той элегантной резьбы вверху, тех фантастических деревянных раскрашенных колонок и орнаментов, какими наполнил свою выставку в Соляном городке, в 1870 году, Гартман; нет у них и той русской национальной красоты, которою сиял русский фасад в «Rue des nations» на парижской всемирной выставке 1878 года, сочиненный г. Ропетом. Но ведь эти двое, Гартман и Ропет, были талантливые люди, с которыми не могут равняться прочие наши архитекторы. Это признают в один голос сами их товарищи. Залы нашей нынешней московской выставки, будучи каждая только прямым параллелограмом, без всяких заворотов и изгибов в плане, не могли иметь того живописного вида, не могли представлять того бесконечного, изменяющегося на каждом шагу ряда перспектив, какой представляли залы парижской всемирной выставки 1867 года, у которой был план овал и, значит, все залы и галереи поминутно закруглялись перед глазами зрителя и поминутно образовывали необыкновенно красивые, уходящие вдаль перспективы линий, форм и красок. Но все-таки галереи московской выставки изящны и привлекательны и много отдаляются от той архитектуры, ничтожной и бесцветной, какою отличались в большинстве случаев наши выставки прежнего времени со включением туда же всей почти московской 1872 года.
Но главная красота выставки проявилась в самом центре ее, когда взойти в тот круглый садик, который составляет главный срединный пункт главного здания. Кто видел общий план выставки, знает, что главное ее здание представляет круг в своем плане. В самом центре его поставлен тот садик, про который я говорю, и на этот центр направляются, как лучи, восемь больших построек, из дерева и стекла, раскрашенные яркими красками, с изящными скатами стеклянной кровли в две стороны и с золотыми орлами на вершине. Пространства между этими восьмью фасадами наполнены соединительными галереями, высотою гораздо ниже главных восьми палат; они тоже сделаны все из дерева и стекла и раскрашены по всем своим стенкам, тоненьким колонкам, карнизам и фронтонам цветистыми гирляндами и узорами в стиле «Renaissance». Эти ряды выгибающихся кругом стеклянных зданий, в красках и золоте, с лужайками, куртинами цветов и вьющимися дорожками перед ними, с красивыми терракотовыми фонтанами, высоко бьющими в нескольких местах садика, с изящною деревянного беседкой на наклоненных врозь копьях, в самой середине садика — все это необыкновенно изящно, светло, радостно, свежо. Наверно, вид садика и обступивших его строений был бы еще красивее, если б тут росли деревья, была тень и яркая зелень листвы, как это чудесно устраивали на больших выставках в Париже, Лондоне и Вене; но привезти и посадить деревья на голом Ходынском поле, на время одной только выставки, а потом увезти их опять прочь — было бы, конечно, слишком большой жертвой и тратой. Как бы ни хороши были тут деревья, а все не следует их требовать на нынешний раз.