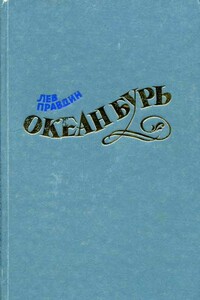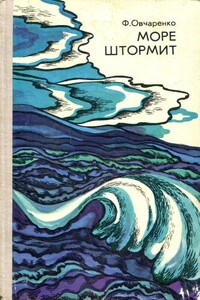Он еще успевал давать в свою газету материал о делах районного комсомола и молодежи. Корреспонденции о комсомольских постах на Уреньстрое очень понравились редактору, и тот откликнулся телеграммой: «…молодец жми том же разрезе».
11
На плотине работали плотники, укрепляя мостки над шлюзами. Один из них — мужик хорошего роста, черный, бородатый, — увидел Боева, всадил топор в бревно и дремучим голосом спросил:
— Да это ты ли, Ромка?
Конечно, Боев не узнал плотника, но догадался, что, должно быть, это кто-то из односельчан.
— Не признаешь? В соседях у вас мы жили, Зотов моя фамилия. Фома Лукич. А я тебя сразу угадал. На мать-покойницу ты здорово похож. Домой, значит, потянуло. А я как узнал, что ты к нам в начальники назначен, так и засобирался к тебе. Дело у меня не очень-то получается красивое…
Вспомнив о своем деле, Зотов помрачнел.
— Какое дело? — спросил Роман.
— Ну, я тебе все расскажу. Из колхоза надумал я уходить.
— Почему?
И Зотов сразу заговорил о своей работе на строительстве. Работал он бригадиром плотничьей бригады с самого первого дня. И вот этой весной к нему из колхоза прибыла делегация. Он с гордостью показал им стройку: крепкие корпуса зданий, мощную плотину и новые турбины. Колхозники все осмотрели, остались очень довольны, и под конец Крутилин — председатель колхоза — сказал:
— Собирайся, Фома Лукич, домой.
— Зачем? — насторожился старик.
— Как зачем? Мало ли делов. Мы тебя два года не видали. У нас все плотничьи работы стоят. К севу одних вальков сколько надо.
Зотов заносчиво ответил, что эта работа не для него — вальки да оглобли. Просто унизительно слушать ему, такому мастеру.
— Нет уж, ищите другого специалиста, а для колхоза я не меньше других стараюсь.
— Стараешься, — согласился председатель. — Ты, Фома Лукич, с роду старательный. И руки у тебя золотые, очень нам нужные.
— Я на все колхозы работаю. Всем польза.
— Всем польза, а нам ущерб. Мы тебя два года не беспокоили, а теперь пусть другие.
Но возвращаться в колхоз он отказался наотрез. Его долго уговаривали, но ничего не помогло. А сейчас, слыхал он, на собрание выставлять хотят. Такого позора терпеть нельзя. Не лодырь все-таки и не прогульщик.
Он усмехнулся, посмотрел вокруг, снова усмехнулся, указал на плотину, на гидростанцию, на красный флажок, трепетавший в чистом небе над крышей.
— Какую красоту построили для колхозного хозяйства. А они…
12
Стан первой бригады кандауровского колхоза, куда Роман был прикреплён в качестве уполномоченного, стоял на пригорке. Здесь земля уже подсыхала, хотя кругом расстилались черные, едва оттаявшие поля. У амбара, на солнечной стороне, сидели несколько колхозников и среди них старик Исаев, бригадир Сергей Зотов и комсомолец Игнат Щелкунов, конюх. Они глядели на село, которое раскинулось в пяти километрах от стана, на бескрайние голубые дали и, разморенные весенним теплом, лениво переговаривались. Игнат, сбросив потрепанный кожух с правой руки, старательно подбирал на балалайке одному ему известный мотив. Это тянулось с раннего утра, и старик, наконец не вытерпев, спросил:
— Играешь ты, Игнат, целый день, а что играешь, хоть объясни!
— Марш, — сурово ответил комсомолец, — «Тоска по Родине».
— Тоска и есть. Вот ведь нехитрый инструмент, а тоже спокоя от него ни себе, ни людям. Бросил бы ты, а?
Игнат осторожно поставил балалайку рядом с собой.
— Трудный мотив, — сказал он и, сдвинув пеструю кепку на затылок, добавил: — Мечтаю гармонь приобрести, очень я музыку люблю.
— Да она-то тебя не очень признает.
Исаев долго думает. Он любит спрашивать о новых порядках, о будущей жизни, но никого не берется поучать. Он убежден, что старая мудрость и стариковский опыт несовместимы с новыми порядками.
— Поясни мне, — медленно спрашивает он Сергея Зотова, — я вот слыхал, что есть такое постановление, чтобы, значит, сознательность у каждого человека была на уровне. Ну, хорошо. Это дело хорошее, дурости в людях еще много.
— Дурости много, — соглашается бригадир.
Старик убежденно и неторопливо говорит:
— Человека сделать легко, а переделать трудно. Я вот с одиннадцати лет в пастухи пошел. Как привязали меня к пастушьему кнуту, так думал, что и в гроб с ним лягу. Отец, бывало, будит до свету и все приговаривает: «Вставай, сынок, вставай. Пора тебе настоящий вкус в хлебе узнать». Так и узнал я, и показался мне в ту пору вкус у хлеба горький.
Он смотрит на Сергея и, как бы оправдываясь, заканчивает со вздохом:
— Отравленный я человек, старое во мне крепко держится. Вот Игнашка подрастет, выучится, галстук каждый день носить станет. А мне все старой горечью отдает. Полынем…
— Философия, — проговорил Игнат.
Словно покосившись на незнакомое слово, старик осторожно осведомился:
— Это ты к чему?
Игнат пустился в объяснения и так далеко заплыл, что старик только рукой махнул:
— Вовсе ты без смысла, Игнатий, словами кидаешься. Балалайка ты без струн.
— Скачет кто-то, — сказал Сергей.
Далеко в степи показался всадник. Рыжий конь, высоко вскидывая ноги, шел крупной и такой щегольской рысью, какая бывает только в том случае, если конь хорош и чувствует ловкость всадника.