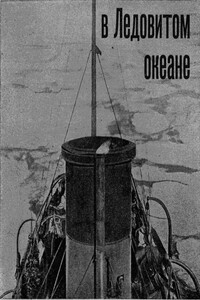На шхуне - [2]
Дорога, слабо белея, стекала под уклон нечастыми мягкими поворотами. Было прохладно, тихо, почти безмолвно. На мгновение Бутакова испугала огромность неба и степи, и он, как порою в океане, ощутил свою малость и свою затерянность в этой огромности.
Верста и еще половинка версты, а тут уж и послышался колыбельный шорох камышей, речной свежестью понесло, к ней круто примешался запах дегтя.
На берегу взметывался светлый костер, в его отблесках, отбрасывая тень, маячила рослая фигура..
– Клюкин, ты? – окликнул лейтенант, наперед зная, что видит именно унтер-офицера Парфена Клюкина, ибо другого такого верзилы не было не только среди моряков, но и во всем раимском гарнизоне.
Унтер рысцой подбежал, Бутаков поглядел на него снизу вверх.
– Ну, что тут у нас?
– А все в аккурате, ваш благородь! Садчиков и еще пятеро, как изволили приказывать, на шхуне. Остальные – вона, в жалейках.
Бутаков усмехнулся: «В жалейках»! Присургучат словцо – не отдерешь». Он искоса глянул на казахские кибитки-джуламейки, прозванные матросами «жалейками», и сказал:
– Пойдем на шкуну.
– Гребцов будить?
Гребцов лейтенант будить не велел, пусть-де отдыхают, шхуна недалеко, они с унтером доберутся без труда.
С того каторжно-знойного часа, когда плоскодонный, длиною в пятьдесят футов, просмоленный, выкрашенный «Константин» взрыл килем речную воду, Бутаков и его матросы снаряжали корабль к походу, то есть были поглощены множеством всяческих забот и хлопот. Стороннему человеку все эти хлопоты и заботы показались бы не столь уж важными, но и лейтенант и его балтийцы знали: упусти хоть что-нибудь, хоть что-нибудь позабудь – и в море хватишь горюшка, а может, и хлебнешь солененького, как говаривали старые корабельщики.
«Константин» стоял на якорях. Река несла звездные блики, и они разбивались о шхуну с тихим звоном, как льдинки. Темная вода быстро, будто крадучись, обегала судно, и снова мерцали на ней льдистые блики, и уплывали все дальше, все дальше, к песчаным отмелям, к песчаным перекатам, к ночному морю: оно лежало там, на весте, милях в тридцати от раимской пристани.
2
Раим прилепился на краю империи.
Пробьют барабаны – заведена пружина на день-деньской.
Солдаты топчут плац, как масло сбивают, фельдфебель матерится, по-бычьи нагибая башку. Между плацем и небом патокой огустел зной. Не продохнешь.
После полудня запах «казенного блюда» перешибает вонь нужников. Обедают солдаты артелями.
Один хлеб режет, прижимая каравай к груди и не забывая при этом ругнуть пекаря сукиным сыном – опять-де корка от мякоти отстает; другой, шмыгая носом, крошит в котелки репчатый лук; третий достает из берестовой тавлинки черный, как порох, перец. Потом солдаты усаживаются вкруговую и молча, опершись локтями о колено, хлебают варево.
Еще долго стоит на дворе вязкая жара, но мало-помалу солнце перестает течь по выцветшему небу комом желтого топленого масла, солнце означается резче, и уже тянет северо-восточный ветерок.
Теперь что же? Теперь чисть, служивый, оружие, вылизывай амуницию, томись до ужина. Во-он, глянь-ка, поволокли кухари мешки с сухарной крошкой, что набилась, натерлась в коробах дорогой из Оренбурга в Раим. Поволокли мешки, стало быть, лопать нынче «заваруху» – сухарные крошки, сваренные на свечном сале.
Вечерами в казарме светят фитильки. Кто на нарах лежит, покуривает, пригорюнившись, кто клопа-злодея давит, а кто в орлянку режется. И печальны лики угодников на плохоньких, рыночной работы иконах, того и гляди заплачут.
В мазанках офицеры, морщась, цедят водку, играют в штос. Играют без азарта, механически двигая руками, щуря глаз от табачного дыма… Скучно. Холостякам еще куда ни шло: есть в Раиме несколько львиц вроде грешной попадьи Аделаиды, и молоденьким офицерам после кадетского затворничества жизнь в фортеции поначалу кажется сносной. Но жена-а-атым… Боже милостивый, боже милостивый… И вечная нехватка денег, и мигрени, и слезливые попреки: «Ты меня никогда не любил».
Кому на радость крепость Раим? Может, одному только солдату линейных батальонов, что пришли недавно из крепости Орской. Может, только ему, рядовому № 191.
Из крепости Орской не было видно ни зги. Будущее? Будущее воняло настоящим – сивухой и солдатским сортиром. В будущем крылось столько же смысла и радости, сколько в окрике фельдфебеля: «подборродок выше!» Просвет объявился весной, слился с запахом разнотравья.
Солдату Шевченко снилось море. На зорях ему слышался смутный гул – казарма вставала, сопя и почесываясь, – а хотелось думать, что этот гул доносится из-за степей и пустынь, оттуда, где сверкает и бьется желанное море.
Прежде он дважды видел море. Черное – очень давно, махоньким, когда чумаковал с батькой, но тогда ему вовсе не море приглянулось, а рябь одесских лиманов, обметанных солью, как высохшим по́том, с бархатной грязью, по которой так хорошо босиком шлепать, и Балтийское – в восемьсот сорок втором, когда Академия художеств послала его в Италию. Он отправился из Питера поздней осенью; Балтика гремела, ветер выл, ухозвон стоял ужасающий, ледяные дожди заточили его в четырех стенах душной каюты, а в довершение всего он так расхворался, так его разломило и размочалило, что в Ревеле пришлось сойти… И вот шесть лет спустя – море ему желанно.
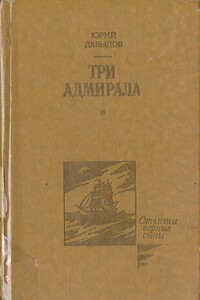
Бурные, драматические судьбы воссозданы в книге «Три адмирала», написанной Юрием Давыдовым, автором исторических повестей и романов, лауреатом Государственной премии СССР.Жизнь Дмитрия Сенявина, Василия Головнина, Павла Нахимова была отдана морю и кораблям, овеяна ветрами всех румбов и опалена порохом. Не фавориты самодержцев, не баловни «верхов», они служили Отечеству и в штормовом океане, и на берегах Средиземного моря, и в японском плену, и на бастионах погибающего Севастополя…Для массового читателя.
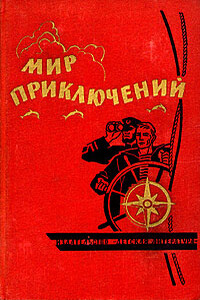
Ежегодный сборник фантастических и приключенческих повестей и рассказов.Кубанский Г. Команда осталась на суднеРысс Е. СтрахТоман Н. В созвездии "Трапеции"Ломм А. В темном городеКулешов Ю. Дежурный по городу слушаетГансовский С. Восемнадцатое царствоГансовский С. МечтаОстровер А. Удивительная история, или Повесть о том, как была похищена рукопись Аристотеля и что с ней приключилосьРосоховатский И. Виток историиКальма Н. Капитан Большое сердцеПоповский А. ИспытаниеРысс Е. Охотник за браконьерамиКотляр Ю. “Темное”Давыдов Ю. И попал Дементий в чужие края…Парнов Е., Емцев М.
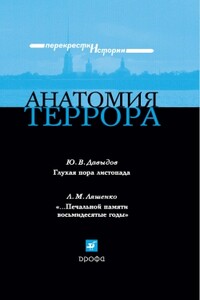
Каковы скрытые механизмы террора? Что может противопоставить ему государство? Можно ли оправдать выбор людей, вставших на путь политической расправы? На эти и многие другие вопросы поможет ответить эта книга. Она посвящена судьбам народнического движенияв России.Роман Ю.В.Давыдова "Глухая пора листопада" – одно из самых ярких и исторически достоверных литературных произведений XX века о народовольцах. В центре повествования – история раскола организации "Народная воля", связанная с именем провокатора Дегаева.В очерке Л.М.Ляшенко "...Печальной памяти восьмидесятые годы" предпринята попытка анализа такого неоднозначного явления, как терроризм, прежде всего его нравственных аспектов, исторических предпосылок и последствий.
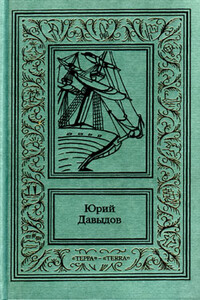
«... Последний парад флотоводца Сенявина был на Балтике. В море был шторм. Дождь не прекращался. Тьма стояла как ночью. А ночью было темно, как минувшим днем. Палила пушка с флагманского, требуя от каждого ответа: где ты? цел ты?«Расположась возле рулевого, – рассказывает очевидец, – адмирал поставил подле себя компас, разложил лакированную карту и сам направлял ход корабля, и только лишь тогда, когда эскадра миновала опасный риф Девиль-зей, Сенявин, не сходя в каюту, спросил чаю. Во всю бурную и мрачную ночь, при сильном дожде он продолжал вести корабль.
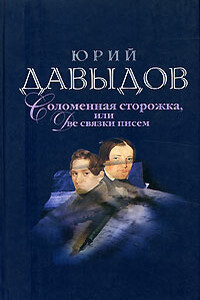
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
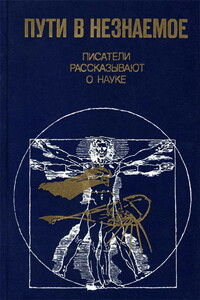
Очередной сборник «Пути в незнаемое» содержит произведения писателей, рассказывающих о различных направлениях современного научного поиска: математические подходы к проблемам биологической эволюции, будущее мировой энергетики, лесомелиорация в Нечерноземье, истоки нечаевщины в русском революционном движении. Читатель найдет в этой книге воспоминания и очерки об Эйнштейне, Капице, Ландау, рассказ о юности физиолога Павлова, познакомится с историей создания отечественного искусственного алмаза.
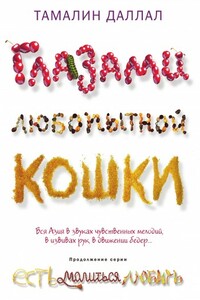
Одна из самых известных в мире исполнительниц танца живота американка Тамалин Даллал отправляется в экзотическое путешествие. Ее цель – понять душу танца, которому она посвятила свою жизнь, а значит, заглянуть в глаза всегда загадочной Азии.Тамалин начинает путешествие с индонезийского Банда-Ачеха, веками танцующего свой танец «тысячи рук», оттуда она отправляется в сердце Сахары – оазис Сива, где под звук тростниковой флейты поют свои вечные песни пески Белой пустыни. А дальше – на далекий Занзибар, остров, чье прошлое все еще живет под солнцем, омываемом волнами, а настоящее потонуло в наркотическом дурмане.
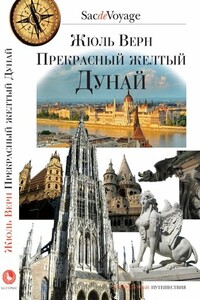
В «Прекрасном желтом Дунае», задуманном как идиллическое путешествие по одной из главных рек Европы, от истоков к устью, со вкусом описаны встречающиеся в пути разнообразные достопримечательности. Мастерство опытного рыболова, вдобавок знающего Дунай, как собственный карман, позволяет главному герою обстоятельно и не без юмора знакомить читателя со всеми тонкостями этого благородного спорта. Временами роман даже начинает напоминать пособие по ужению рыбы. А история с контрабандистами придает сюжету дополнительную остроту.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
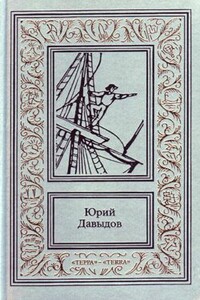
«… В госпитале всегда было людно. Не одних лишь жителей Аддис-Абебы лечили русские медики. С плоскогорий, выглаженных ветрами, из речных долин, пойманных в лиановые тенета, тропами и бездорожьем, пешком и на мулах, в одиночку и семьями сходились сюда северяне тигре и южане сидама, харари из Харара и окрестностей его, амхарцы, самые в Эфиопии многочисленные, и люди из племени хамир, самого, наверное, в стране малочисленного… Разноязыкий говор звучал у стен госпиталя – то богатый гласными, плавный, как колыханье трав на пастбищах, то бурно-восклицающий, как громкий горный ручей, то глухо-гортанный, словно бы доносящийся из душных ущелий.
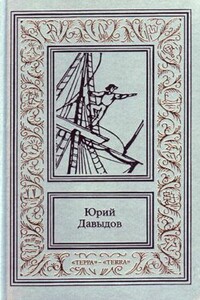
«… Елисеев жил среди туарегов, как Алеко среди цыган.Он сидел с ними у вечерних костров, ел асинко – вкусную кашу, ел мясо, жаренное на углях и приправленное ароматными травами, пил кислое молоко. Он спал в шатрах туарегов и ездил с ними охотиться на страусов.Диву давался Елисеев, когда туарег, даже не склоняясь с седла, по едва приметному, заметенному песком следу определял, сколько верблюдов прошло здесь, тяжела или легка их ноша, спешат погонщики или нет. Диву давался, наблюдая, как туарег рассчитывал направление в пустыне по виду дюн, по полету птицы, по движению облаков… Глаза у туарегов были поистине орлиные.
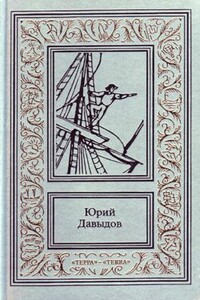
«… Но тут, среди густых лесов, перемежавшихся травянистыми равнинами, настигли Юнкера двое гонцов. Первый был добрым вестником. Его прислал старый знакомец – Ндорума. На голове у гонца покоился объемистый сверток, зашитый в обезьянью шкуру. Почта из России! Восемь месяцев, долгих, как восемь лет, дожидался он известий с родины. И вот дождался!Темное лицо другого гонца было непроницаемым и важным. Он наклонил голову, украшенную повязкой из тонких черных шнуров, падавших на лоб и сходившихся на затылке двумя обручами, наклонил голову и сложил к ногам Юнкера два куриных крыла.Проводники попятились.
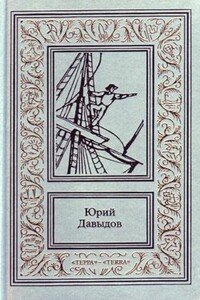
«… Несходство, и притом важное, обнаружилось после московского Чумного бунта и упрочилось после всероссийского пугачевского восстания.Для Каржавина путь начинался в точке, обозначенной «мы». Мы – это те, кто сознает необходимость решительного переустройства земного, общего, народного.Для Баженова путь начинался в точке, обозначенной «я». Я – это каждый, кто сознает необходимость переустройства собственной души.В каржавинском «мы» находилось место и для «я», но второстепенное, подчиненное. В баженовском «я» находилось место и для «мы», но не первостепенное.