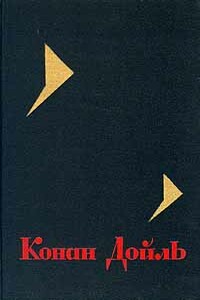На рубеже Азии - [7]
Интересная игра в шашки в волости кончалась всегда одним и тем же: как Прошка ни потел, как ни чесал затылок, а Январь Якимыч всегда непременно загонял его «в места злачные». Рукин был старик лет шестидесяти, благообразный и седой, но очень хитрый и постоянно улыбавшийся; у него на рынке была небольшая лавчонка, в которой он бойко торговал «панским товаром», то есть обувью, чекменями, азямами, конской сбруей, рукавицами и разными другими товарами, в которых нуждался рабочий люд. Вахрушка, сиделец, красивый парень лет двадцати пяти, славился тем, что ежегодно «уносил круг о Николине дне», когда в Таракановке происходила борьба; Вахрушка «завязывал узлом» даже Прошку с его неизмеримым затылком и вообще пользовался репутацией отпетой башки. Прошка, Рукин и Вахрушка составляли «таракановскую троицу», как говорил отец, и были неразлучны: утром играли в шашки в волости, а по вечерам резались в стуколку у Рукина. Относительно этой троицы в Таракановке громко говорили все, что и Прошка, и Рукин, и Вахрушка «пошли жить от старцев»; именно, ходили всевозможные рассказы о том, как эта троица подсмотрела где-то в горах раскольничий скит, старцев и стариц передушила и забрала себе многое множество денег, меду, восковых свеч, дорогих икон и т. п.; между прочим, передавали, со всеми подробностями, как троице досталось одной медной монеты пять больших мешков, в каких продают муку. В подобных случаях ничего невероятного не было; случаи подобного рода в летописях Таракановки не были исключительным явлением: одной рукой подавали в скиты, а другой зорили их.
У Рукина и Прошки были отличные новенькие домики, стоявшие недалеко от волости; между ними приютилась небольшая избушка нашей просвирни Луковны. Эта маленькая на вид избушка внутри делилась на три комнаты: в одной жила сама Луковна с дочерью Олимпиадой, или попросту, как все ее называли, Лапой и даже Лапухой; в другой комнате жил сын Луковны, дьячок Кинтильян, а в третьей помещался Меркулыч. У избушки Луковны ворот не было, а стояли одни столбы; крыша давно прогнила, кирпичи в трубе выкрошились, и у окон недоставало нескольких кирпичей. Но это наружное убожество с излишком выкупалось тем, что находилось внутри избушки Луковны.
Комната Луковны отличалась полным отсутствием мебели, за исключением двух лавок и некрашеного стола; перед русской громадной печкой стояло несколько ухватов, полка с горшками, чашками и самоваром была рядом — вот и все. Остальное имущество помещалось частью на печке, частью за печкой и состояло из какой-то невообразимой ветоши да двух-трех стареньких ситцевых платьев.
Луковна была вдова; ее муж был дьяконом в Таракановке. Это был очень добрый и очень умный человек, но вечно пьяный и не имевший совсем характера.
Если моему отцу тяжело приходилось жить в Таракановке, то дьякону приходилось вдвое тяжелее, потому что он получал вдвое менее жалованья и доходов, а Луковне в десять раз тяжелее всех, потому что муж пропивал половину жалованья и, главное, мешал работать и буянил. Однако, несмотря на все это, Луковна ухитрилась выучить старшего сына в семинарии; другой ее сын хотя и жил с ней вместе, но не только не помогал ей, а даже тащил в кабак из ее гардероба или убогой утвари, что попадало под руку. Когда у Луковны учился старший сын в училище и семинарии, каждый месяц нужно было посылать в город пять рублей за квартиру, нужно было белье, верхнее платье, сапоги, — я отказываюсь понять, каким образом сколачивалась Луковна, когда в доме не было гроша. По смерти дьякона, которого Луковна горько оплакивала, она жила по-прежнему, с той разницей, что ее никто не ругал, но это не мешало Луковне часто вспоминать мужа, и чем больше проходило времени, тем воспоминания эти делались как-то живее, и дьякон являлся в них почти отличным семьянином. Забывала ли Луковна свои огорчения, вспоминала ли свою молодость, когда дьякон еще не пил, или смерть примирила ее с отцом ее детей, — трудно сказать, но Луковна никогда не говорила ничего дурного про своего мужа. Мой отец и все одинаково уважали эту женщину; сама Луковна держала себя всегда ровно и спокойно, была приветлива и не теряла этого равновесия души и часто смеялась сквозь слезы над какой-нибудь выходкой своего «заблудящего дьякона», как она называла мужа. В детстве я половину своего времени проводил в избушке Луковны, которую очень любил, и как теперь вижу ее: небольшого роста, широкая в плечах, с сильными загорелыми руками; смуглое скуластое лицо ее с небольшими черными глазами, совсем черные волосы на голове, густые брови, немного приподнятые скулы, горбатый нос и большой рот, все это носило немного восточный отпечаток, особенно когда Луковна улыбалась. Здоровье у нее было железное, и это, кажется, было единственное богатство, каким наградила ее судьба.
Старший сын Луковны, кончив курс в семинарии, уехал в Петербург и там поступил в медицинскую академию; он очень редко писал матери, и эти письма были настоящим праздником для нее. Когда долго не было писем, она беспокоилась, вздыхала, часто плакала, начинала видеть дурные сны, а в сны она слепо верила, и, странное дело, эти сны почти всегда оправдывались; увидит Луковна печь — значит, будет печаль, увидит воду или хлеб — письмо от сына из Петербурга. Читать Луковна не умела, поэтому все письма ей читали другие — Меркулыч, иногда я или отец; Луковна во все время такого чтения обыкновенно стояла, склонив немного голову набок, с самой блаженной улыбкой на губах, а по смуглому лицу так и катились счастливые слезы.

Роман русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка «Золото» (1892) о жизни золотоискателей Урала в пореформенный период.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.
![Тринадцать: Оккультные рассказы [Собрание рассказов. Том I]](/storage/book-covers/86/86c1d9f26f4e3d4c98834f70b0afbac3cb082a09.jpg)
В первом томе собрания рассказов рижской поэтессы, прозаика, журналистки и переводчицы Е. А. Магнусгофской (Кнауф, 1890–1939/42) полностью представлен сборник «Тринадцать: Оккультные рассказы» (1930). Все вошедшие в собрание произведения Е. А. Магнусгофской переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
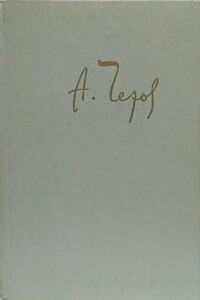
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.
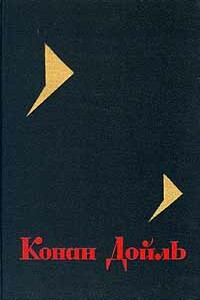
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
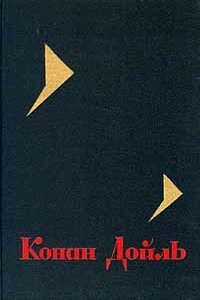
Рассказ «Горбун» из сборника «Записки о Шерлоке Холмсе».Полковника Барклея нашли мертвым после сильной размолвки с женой, лежащим на полу с размозженным затылком. Его жена без чувств лежала на софе в той же комнате. Но как объяснить тот ужас, который смерть запечатлела на лице полковника? И что за животное оставило странные следы на полу и портьерах комнаты?..