На практике - [2]
Кочегар, засунув руки в карманы, ждет меня, насвистывая какую-то песенку.
- Ну? — весело спрашивает он, когда я подхожу. — Григорьев не побил?
- Только что не побил, — отвечаю я, и сразу мы оба чувствуем себя старыми товарищами.
Мы идем направо по площади, туда, где над маленькой дверью харчевни нарисована какая-то большая птица, проткнутая вилкой и ножом.
- Да вот, — говорит мой товарищ, — ругатель Григорьев, конечно, а вот насчет этого, только он да мой - своих кочегаров вперед себя обедать пускают.
В темной, обширной, с невысокими потолками харчевне много народа: машинисты, слесаря, кузнецы. Лица черные, закоптелые, у машинистов важные и тем важнее, чем больше нашивок из галуна на шапке. С каким сосредоточенным важным видом ест один с тремя нашивками, еще молодой, с русой бородкой, с умными, твердыми голубыми глазами.
Там, дальше, группа уже поевших. В центре большой, толстый, отвалившись, улыбается, слушая соседа, и, прищурившись, смотрит начальственно на нас. Рядом с ним высокий, худой, с жидкой бородкой, с тремя нашивками веселый немец что-то говорит, и все кругом хохочут.
- Это Альбранд из Вены - все врет, но так, что животики надорвешь, — говорит мой спутник.
Какой-то машинист за другим столом, мрачный, желчный, стучит кулаком и грозно говорит:
- Я своего паровоза не дам... Расплююсь, уйду, а не дам.
Небрежно откинувшись, куря сигару, слесарь читает газету.
Нам дали борщ с большим куском говядины, на столе хрен с уксусом, гора ломтей темного пшеничного хлеба, один запах которого уже вызывает усиленный аппетит. На второе дали тушеную говядину с густым черным соком, с поджаренным картофелем.
Я, всегда смотревший на еду, как на какую-то скучную формальность, здесь ел, ел и чем больше ел, тем больше хотелось. Ел и с наслаждением представлял себе родных, знакомых барышень. Если бы они увидали теперь меня здесь? Моя мать, которая в отчаянии от моего обычного ничегонееденья, всегда говорила:
- Твой желудок - дамочка, и самая капризная из всех.
А осенью у меня будет в кармане аттестат машиниста.
Я заплатил за свой обед двадцать копеек, и мой товарищ говорит мне:
- Григорьев! Я его, зуду, хорошо знаю, я тоже начал с ним ездить, — ему всех новичков дают, потому что другие, вот эти все, такого кочегара, как вы, в шею бы погнали с паровоза, а он берет, — он теперь несколько дней, пока вы не приучитесь, и обедать не будет ходить. А вы ему бутылочку водки купите и отнесите: он это любит, помягче станет с вами.
- Так, может быть, и обед ему снести?
- Ну, так худо ли было б!
Нашлись и судки: щи, жаркое, огурец, хлеба ворох, бутылка водки.
- Ну, уж валяйте ему и пива, — пусть старичина повеселится. Вместе понесем.
- Дядя, Григорий Иванович! — кричал еще издали мой товарищ. — Мы к вам с поклоном и повинной.
- Ну, какие там еще... Ничего не надо!
И Григорьев, как те игрушечные медведи, что заводят и они возятся и ворчат, завозился в своем углу, вытаскивая грязный платок с провизией.
Мой товарищ, очевидно, успевший изучить бывшее начальство, сломил, однако, упрямство Григорьева, и немного погодя, энергично хрустя зубами, он уже уничтожал все принесенное нами.
Он сидел на корточках, открывая, как пасть, свой широкий рот, и говорил в промежутках, обращаясь исключительно к своему бывшему помощнику:
- Все это лишнее. — Он тыкал на борщ, жаркое. — Ну, вот это, — он указал на водку, — пожалуй, что и полезное - когда за двух приходится работать, — где же силы взять, — она вот и помогает...
И он брал бутылку и опять осторожно наливал в свою с отбитым донышком рюмку.
- Вот это, — он показал на пиво, — тоже по-настоящему дрянь: это немцам, а наш брат...
- Водка, конечно, тверже, — соглашался мой товарищ.
- Ну, так как же! — пренебрежительно говорил, кивая головой и прожевывая новый кусок, Григорьев.
Так говорил он, пока все полезное и бесполезное было уничтожено. Завидев уже бегущего составителя, Григорьев, поднимаясь, бросил, ни к кому не обращаясь:
- Ну, теперь и терпеть можно!
И мы опять принялись за работу и работали до заката.
Тогда нам снова дали передышку на полчаса.
Григорьев полез в свой сундучок, вынул оттуда грязный платок с провизией, развернув его, достал колбасу и хлеб. Молча, отрезав кусок колбасы и хлеба, он передал их мне, и я, уже опять голодный, принялся за них с большим удовольствием.
- Водки хотите?
Я отказался. В бутылке ее уже оставалось немного, и Григорьев был доволен, очевидно, моим отказом, хотя и ответил:
- В нашем деле без водки не проживешь.
После этого мы молча ели, каждый в своем углу: Григорьев около рычага, я около тормоза - отделение кочегара.
От этого тормоза ломило руки, и на ладонях были уже большие водяные, красные по краям мозоли.
Но в общем я чувствовал себя прекрасно. Худо ли, хорошо ли я выполнял свои обязанности, но старался я на совесть и устал так, как, кажется, еще никогда не уставал. И в то же время я чувствовал себя таким свежим. И все кругом гармонировало с моим настроением.
День стихал неподвижный и ясный. Откуда-то из города доносился замиравший, словно утомленный шум.
Солнце опускалось за горизонт, плавя его в золото, сквозь которое светилось там где-то далеко зеленовато-бирюзовое нежное небо, несся со степи запах свежего сена, слышалась песня возвращающихся с работы косцов.

Произведение из сборника «Барбос и Жулька», (рассказы о собаках), серия «Школьная библиотека», 2005 г.В сборник вошли рассказы писателей XIX–XX вв. о собаках — верных друзьях человека: «Каштанка» А. Чехова, «Барбос и Жулька» А. Куприна, «Мой Марс» И. Шмелева, «Дружище Тобик» К. Паустовского, «Джек» Г. Скребицкого, «Алый» Ю. Коваля и др.
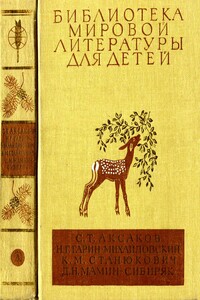
В том включены избранные произведения русских писателей-классиков — С. Т. Аксакова, Н. Г. Гарина-Михайловского, К. М. Станюковича, Д. Н. Мамина-Сибиряка.
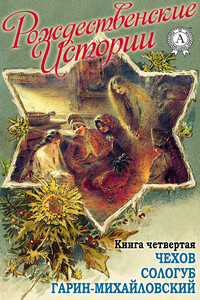
Четвертая книга из серии «Рождественские истории» познакомит вас с творениями русских писателей – Антоном Чеховым, Федором Сологубом и Николаем Гарином-Михайловским. Рождественскими мотивами богаты рассказы Чехова, в которых он в легкой форме пишет о детстве и о семье. Более тяжелые и философские темы в рассказах «накануне Рождества» затрагивают знаменитый русский символист Сологуб, а также писатель и по совместительству строитель железных дорог Гарин-Михайловский. «Рождественские истории» – серия из 7 книг, в которых вы прочитаете наиболее значительные произведения писателей разных народов, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

Мифы и легенды народов мира — величайшее культурное наследие человечества, интерес к которому не угасает на протяжении многих столетий. И не только потому, что они сами по себе — шедевры человеческого гения, собранные и обобщенные многими поколениями великих поэтов, писателей, мыслителей. Знание этих легенд и мифов дает ключ к пониманию поэзии Гёте и Пушкина, драматургии Шекспира и Шиллера, живописи Рубенса и Тициана Брюллова и Боттичелли. Настоящее издание — это попытка дать возможность читателю в наиболее полном, литературном изложении ознакомиться с историей и культурой многочисленных племен и народов, населявших в древности все континенты нашей планеты. В данном томе представлены верования и легенды народов Восточной и Центральной Азии, чья мифология во все времена была окутана завесой тайны.

«Многое изменилось на селе за эти восемьдесят лет, что прожила на свете бабушка Степанида. Все, кто был ей близок, кто знал ее радости, знал ее горе, – все уже в могиле…».

«Это было очень давно.По улицам одного большого южного города, амфитеатром спускающегося к синему беспредельному морю, изо дня в день, лето и зиму, бродила странная фигура сумасшедшего…».
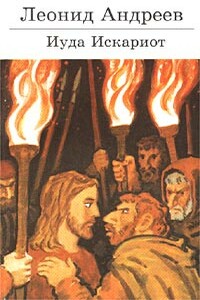
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.