На горах - [386]
– Коего лешего караулишь? – зарычал почти на него рабочий. – Кто тебя ставил на караул?
– Миром положено, – отвечал Асаф, – а сегодня мой черед.
В это время послышались неистовые крики на усадьбе Чапурина. Они становились громче и громче. Раздались отчаянные вопли и стоны. К облаве побежали работники, что оставались на деревенской улице, шум поднялся еще больше, весь народ в Осиповке до последнего ребенка проснулся. Проснулись и сам Патап Максимыч, и домашние его. Он выбежал на улицу и увидал, что впереди работники ведут со связанными руками Илью да Минея, а за ними трех рабочих, всех в крови от ударов ломами. Воры, не зная, что на них собралась целая облава, ударили работников, что прежде других прибежали к палатке, но потом, видя, что народа набежало пропасть, перестали защищаться и молча сдались. По приказу Патапа Максимыча заперли их покамест в пустом амбаре, а только что рассвело, отправили в становую квартиру.
Когда все успокоилось, Патап Максимыч сел в верхних горницах за самоваром вместе с Никифором. Позвали чай пить и старика Пантелея, а Василий Борисыч в подклети на печке остался. Спать он не спал, а лежа свои думы раздумывал. Между тем Чапурин, расспрашивая, как узнали о подломе палатки при самом начале дела, подивился, что стук ломов первый услыхал Василий Борисыч. Не сказал на то ни слова Патап Максимыч, но по лицу его видно было, что он доволен.
– Да что он в подклети-то у вас делает? – погодя немного спросил Патап Максимыч.
– Да ничего не делает, – сказал Пантелей. – Теперь вот дня с три ему полегчало, так по дням больше читает, а по ночам сидит на крыльце да что-то потихоньку попевает.
– Гм! – отозвался Патап Максимыч и задумался, барабаня по столу пальцами.
Прошло несколько времени, Никифор Захарыч прервал общее молчанье:
– Можно ли мне попросить тебя насчет его, Патап Максимыч? – сказал он вполголоса.
– О чем это? – быстро спросил у шурина Чапурин, но не гневно, не сурово, как прежде бывало, когда про Василья Борисыча речь заходила.
– Живет он у тебя безо всякого дела, – сказал Никифор Захарыч. – Ну, известно, что каждый человек без дела во всякое время может с ума спятить. По себе сужу, сам от безделья до того, бывало, доходил, что стал по всему нашему заволжью самым последним человеком, знаться со мной никто не хотел, ребятишки даже походя надо мной смеялись да надругивались, сколько им хотелось. Вывел меня Господь на добрую дорогу, и сам ты не один раз говаривал, что дело у меня из рук не валится. Тяжело мне было на добрый путь становиться, да, видно, молитвы Настеньки, нашей голубушки, до Бога доходны, ведь у смертного одра ее Бог послал мне перемену в жизни. Слушая последние слова ее, решился я переменить жизнь. Она, моя радость…
И не мог больше говорить, залился слезами, склонясь на стол и крепко обхватив голову руками.
– Полно, Микеша, полно, родной ты мой, – с навернувшимися слезами молвил Патап Максимыч… – Не поминай! Было время, да уж нет его, была у меня любимая доченька, в могиле теперь лежит, голубушка… Не воротишь дней прошлых, Микеша… Полно ты меня сокрушать. Бог все к хорошему в здешнем свете строит, ни коему человеку не понять благостных путей его. Про него-то что хотел говорить ты? Про певуна-то нашего, про посланника архиерейского?
– То хотел я сказать про него и о том тебя просить: не вводи ты его во грех и напасть. Дай ты ему какое-нибудь дело, – молящим голосом сказал Никифор Захарыч.
– Много было у меня на него, беспутного, надежды, – несколько нахмурясь, сказал Патап Максимыч. – И никакого толку из него не вышло. К чему ни приставлял его для ради надзора за работами, куда ни посылал его, никакого толка не выходило. Нет, уж такой он беспутный, что на добрую стезю его не направишь. Да еще что на днях вздумал, – ты еще не приезжал тогда: худа ли, хороша ли у него жена, а все-таки, однако ж, жена, а он к девкам на посиделки повадился. Путное ли это дело, сам посуди, ведь это всему дому моему зазор. Так или нет?
– Не мне судить об этом, Патап Максимыч, – сказал Никифор Захарыч, – сам был я во сто крат его хуже, – промолвил он, опустя голову. – А ведь ты отпустил же мне мое беспутство и прегрешения, а им ведь и числа нет. Отчего ж бы тебе не постараться зятя на истинный путь наставить? Ведь не чужой тебе…
– Наставишь его! Как же! – молвил Чапурин.
Задумался Патап Максимыч и сказал потом:
– Разве вот что: поедешь куда, возьми его, чтоб он во всем из твоих рук смотрел.
– Что ж, я ото всей души рад и на него надеюсь, – ответил Никифор Захарыч.
– Так вот, надо мне послать тебя в Красну Рамень, на мельницы, – молвил Патап Максимыч. – Возьми ты его с собой, только, чур, глядеть за ним в оба, да чтобы не балбесничал, а занимался делом, какое ему поручишь. Да чтобы мамошек там не заводил – не в меру до них он охоч. Хоть и плохонький, взглянуть, кажется бы, не на что, а такой ходок по части женского пола, что другого такого не вдруг сыскать.
– Да уж я постараюсь, чтобы пустяками-то он не занимался, – сказал Никифор Захарыч. – Доброго слова он завсегда послушается, а бранью да насмешками… только пуще его раздражишь. Узнал я его хорошо, и сдается мне, что можно исправить его и приспособить ко всякому делу.
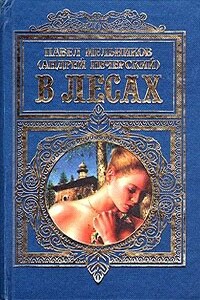
Роман П.И.Мельникова-Печерского «В лесах» занимает особое место в русской литературе XIX века. Посвященный жизни и быту, стародавним обычаям раскольничьих скитов Заволжья, он своим широчайшим охватом действительности, глубоким проникновением в сущность жизненных процессов, ярко реалистическим изображением характеров снискал известность как одно из оригинальнейших эпических полотен русской литературы.

Из дорожных записок.Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек").Том 1, с. 5–24.

Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек").Том 1, с. 144–160.

Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропроходящими: все, что написано настоящим художником, приковывает наше воображение, мы удивляемся широте познаний писателя, глубине его понимания жизни.П. И. Мельников-Печерский принадлежит к числу таких писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности, заставляющий читателя самого догадываться о том, что же он хотел сказать, заставляющий думать и переживать.Мельников П. И. (Андрей Печерский)Собрание сочинений в 8 т.М., Правда, 1976.

Из раскольничьего быта.Мельников-Печерский П. И. Собрание сочинений в 6 т.М., Правда, 1963. (Библиотека "Огонек").Том 1, с. 249–288.

Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропроходящими: все, что написано настоящим художником, приковывает наше воображение, мы удивляемся широте познаний писателя, глубине его понимания жизни.П. И. Мельников-Печерский принадлежит к числу таких писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности, заставляющий читателя самого догадываться о том, что же он хотел сказать, заставляющий думать и переживать.Мельников П. И. (Андрей Печерский)Полное собранiе сочинений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».