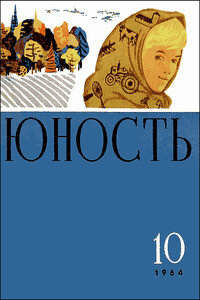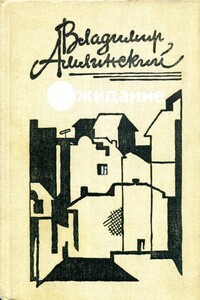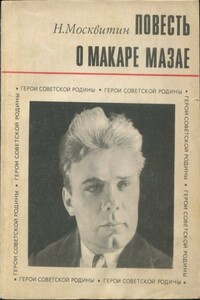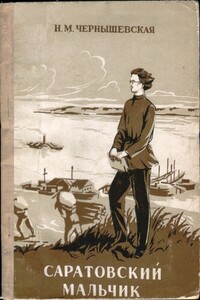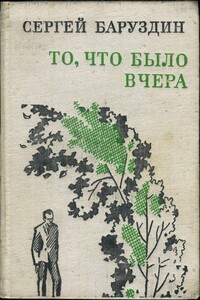— Знаешь, я к этому не привык. Я прекрасно справляюсь сам.
А что я знаю о нем, об этом старике, который живет теперь в квартире моей матери? Действительно, что я о нем знаю? Что он встает всегда в одно и то же время, в семь часов, что он делает утреннюю гимнастику для пожилых, что он очень аккуратен, но никогда не делает мне замечаний, если я не вытираю пол в ванной и если не гашу свет в туалете… Что еще?.. Что по воскресеньям он наряжается в лыжный костюм, в котором он очень смешон, и куда-то уходит; что по вечерам к нему приходят такие же старики, как и он сам. Они разговаривают, пьют чай, поют песни революционного подполья. Вот и все, что я знаю о нем.
— Что это за странные сапоги на этом портрете? — спрашиваю я. — И вообще у вас здесь мощный вид… Вы похожи на Пархоменко.
Старик задумался.
— Это не сапоги, это — ичиги. Их носили на Дальнем Востоке… Впрочем, это целая история.
— Ну, расскажите… Это же интересно… Революция, Дальний Восток. Я очень люблю историю гражданской войны… Знаете, в красном переплете, том первый.
— Еще бы мне не знать, — улыбается старик.
— Ну, так что же? Вы же хотели рассказать про ичиги, — пристаю я к нему.
Старик пьет бесшумно, мелкими глотками.
— Да это длинная история, — говорит он. — Просто я бежал тогда из тюрьмы в Хабаровске, там был атаман Калмыков… Ну, и шел по тайге один… Потом ботинки сносились, шел в портянках…
— Ну, а ичиги? — спрашиваю. — Откуда же ичиги?
— А ичиги мне подарили в одной деревне… В Архангеловке. Подарила одна женщина… Но это все сложная история.
— Ну, это ведь самое интересное… А дальше что было?
— Ну, а дальше была гражданская война, — улыбается старик. — Бери варенье, чудак.
«Ишь он какой, старик, — думаю я. — Видно, немало он перевидал… В портянках по тайге — это не что-нибудь. А ведь по нему не скажешь».
— А эту женщину вы видели еще? — говорю я и накладываю себе варенье. Оно легкое, как вата. Это болгарский конфитюр.
— Какую еще женщину? — удивленно спрашивает старик. Он, видимо, забыл, что говорил про нее. Все-таки он очень старый…
— Женщину, которая подарила ичиги. В тайге.
Старик что-то раздумывает, видимо, вспоминает…
— Конечно, видел, — говорит он. — Эта женщина была моей женой. И у нас родился сын.
— Так у вас есть сын? — обрадованно говорю я. — А где он… Он не в Москве? Почему он никогда не приходит?
Старик снова задумался. Зря я пристаю к нему с расспросами. Какое, в конце концов, мне дело.
— Моего сына воспитал другой человек, — говорит старик. — Мы с сыном никогда не видимся… Ну, это целая история.
Оба мы молчим.
— Я считаю, что вы должны написать о Дальнем Востоке, и вообще об этом участке гражданской войны, — говорю я.
Старик улыбнулся.
— Я пишу об этом. Книга называется «Партизанское движение на Дальнем Востоке». Ну, а ты как? Где ты учишься?
— Я не учусь. Я работаю на заводе замочных изделий.
Старик с интересом смотрит на меня.
— Это смешной завод, — говорит он. — Ну, там ведь не только замки… Наверное, еще что-нибудь делаете, поважнее.
— Конечно, не только замки, — говорю я. — Это только так называется. Мы делаем и карбюраторы, и втулки, и детали к машинам. Мы их делаем из железного порошка. Это новое слово в науке.
Тут я, конечно, приврал. Мы их еще не делаем. Завтра только у нас будут пробы. Ну, все равно, это почти одно и то же.
— Ну, я пошел. Спокойной ночи, — сказал я.
— До свиданья… Приходи ко мне, если будешь свободен.
Он улыбнулся и снова стал похож на старого, грустного и, пожалуй, доброго дога.
— Слушай, сколько тебе лет? — спросил он неожиданно.
— Мне восемнадцать, — ответил я.
— Какой ты счастливый! Тебе здорово повезло.
Он стоял задумавшись, сутулясь, стоял под портретом, где был изображен молодой суровый большевик, обутый в сапоги со странным названием — ичиги.
Я кивнул ему и тихо закрыл дверь.
Я вошел в свою комнату, зажег свет. Молочные брызги на полу засохли и стали похожи на известку.
Мне стало вдруг весело от мысли, что мне только восемнадцать лет. Засыпая, я подумал о том, что в комнате нужно все-таки устроить уборку…
1960 г.
На повестке дня комсомольского собрания целинного совхоза стоял вопрос о Дронове. Объявление было приколото к дверям бывшей бани, а ныне клуба (из-за острой нехватки места для культурного отдыха баню перевели в специально оборудованный вагончик).
Объявление гласило: «Пункт третий повестки дня — очень неэтичное поведение Дронова Вани, киномеханика. — И все вытекающие отсюда последствия». Повестку составлял недавно избранный член комитета Микитдинов Сельмаш (имя было дано, видимо, во время коллективизации в Казахстане). Сельмаш любил таинственные и грозные намеки, и объявление было составлено в его стиле.
А за день до собрания ко мне подошел Ваня Дронов. Карие его глаза были печальны, темны. Солнцу, веселящемуся в поселке, не было туда доступа: отныне оно померкло для Вани Дронова, совершившего неэтичный поступок.
— Я хочу посоветоваться с вами, — сказал он.
— Буду очень рад, — ответил я.
— Видите ли, я в этом совхозе с первого дня, а Сельмаш и другие пришли сюда недавно. В общем-то они салажата. Так вот, чтобы они поняли, в чем дело, я написал объяснительную записку… Пусть прочтут, а уж потом судят. Здесь я описал все с самого начала… Может, я чего и не так написал, но я писал так, как было. Возьмите, пожалуйста.