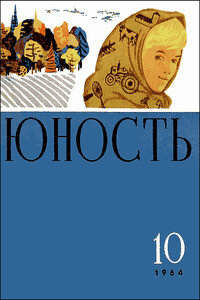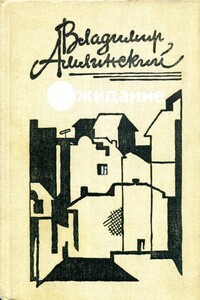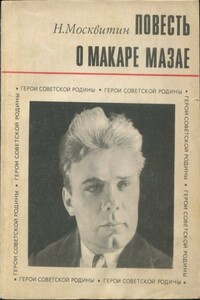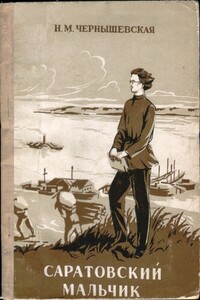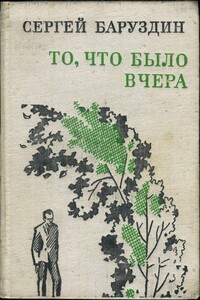А что впереди?
Машина шла к мавзолею.
Пустыня по-вечернему тускнела, потеряла живой, теплый цвет и стала гипсовомертвой. Профессор не смотрел по сторонам: ему давно набил оскомину этот лысый пейзаж.
Он знал, что пустыню любят только туристы, а те, кто здесь живет, не любят ее — они только сосуществуют с ней.
Он все время зевал, не оттого, что хотел спать, а от головной боли, спазматически.
— Ко сну клонит? — спросил шофер Митя. — Ничего, завтра воскресенье, отоспитесь. Или опять лекцию будете читать?
По воскресеньям в нерабочее время он читал лекции для учащихся соседних школ.
— Завтра не буду читать, — сказал профессор. — А насчет отоспаться — это вряд ли…
— Это что ж получается, — сказал Митя, — какой же интерес без выходных работать? Человек и выпить должен, и в кино сходить, и с женой погулять.
— Должен, Митя… Только вот, когда работа не задается, сидишь ты в кино, ленту смотришь, а сам о своей работе думаешь. И никакого удовольствия.
Митя покачал головой:
— Это у вас-то не задается?.. Это сейчас?
— Да нет… всю жизнь. Это уже наука такая или, может, я такой. Что-нибудь да не задается.
— Чудно́ получается, — сказал Митя и повернул машину.
— А насчет выпить — это я всегда пожалуйста. Был бы коньячок.
— Найдем, — улыбнулся Митя. — В крайнем случае в Мары слетаем.
Он посмотрел на профессора в узкое зеркальце. Митя меньше других соприкасался с профессором на работе, когда профессор был подтянут, быстр, повелителен. И чаще других наблюдал его усталым, долго, судорожно зевающим, раскинувшим большое, рыхлеющее тело на заднем сиденье.
Сейчас профессор сидел закрыв глаза.
— Может, окошко открыть? — сказал Митя.
— Не надо… Там пыль, — не открывая глаз, сказал профессор. Сегодня ему было хуже, чем обычно.
— Вот Султан показался, — сказал Митя.
Профессор открыл глаза. В слегка гребнистом от ям и все-таки бесконечно плоском пространстве тихо, тускло мерцал седоватый купол, похожий издали на огромную каску. Профессор ожил, попросил остановить машину и пошел к мавзолею. Он шел довольно быстро, сильно размахивая руками. Он забыл про головную боль, про головокружение и зло нацелился обострившимися глазами на мавзолей, ища плохо пригнанные швы, оттенки чужеродного материала, торопливые следы ненавистных ему ашхабадских халтурщиков. Мавзолей все вырастал навстречу профессору, и вершина его переставала быть мрачной каской, а становилась постепенно грандиозным куполом, мощно и мягко прорисованным в высоком темнеющем азиатском небе. И вдруг, уже совсем близко от мавзолея, профессор резко застопорил свой быстрый и гневный шаг.
Он удивленно поднял голову и застыл.
Там, над самым куполом, на огромной высоте, крошечная, как шахматная пешка, тревожно и странно маячила человеческая фигура.
«Что за чертовщина! — подумал профессор. — Нет, я совсем расклеился».
Он снял темные очки и еще раз, уже спокойно и пристально, посмотрел вверх.
Фигурка не исчезала. Он подозвал Митю и крикнул, показав рукой на купол:
— Видишь?!
— Вижу, — сказал Митя.
— Чертовщина какая-то.
— Почему чертовщина? — рассудительно проговорил Митя. — Обыкновенный человек. Мальчик.
Мальчика звали Халматов Каля. Был он высокий, тонкий в кости, темный лицом почти по-негритянски. По национальности он был узбек, хотя числился в документах туркменом.
Родители его погибли в землетрясение. Среди прочих осиротевших детей его отдали в детский дом для малолетних, и уж какая там национальность — многие из них и фамилию свою не знали. Только потом стало ясно, что он не туркмен — такие лица у гузов не бывают, такие раскосые, с глазами узкими, длинными, отставленными друг от друга далеко.
Халматов Каля был парень тихий, что называется некомпанейский. Был он уступчив, дружелюбен, не больно-то общителен. В баскетбол он не играл, на спортплощадке появлялся редко. И часто после уроков исчезал куда-то на много часов и появлялся только вечером. Его спрашивали:
— Где был?
Он отвечал вяло:
— К Султан-Санджару ходил.
— Чего там делал?
— Да так… Гулял просто.
Ребята ухмылялись. Никого из них особенно не интересовала эта огромная историческая развалина. Все они были там по разу в порядке обязательной экскурсии, и никому в голову не приходило таскаться туда по собственной воле в драгоценное внеурочное время.
Вот и сегодня к вечеру он отправился в район раскопок. Он шел пешком километров шесть, пока не добрался до ворот старого Мерва. Археологи уже не работали. Изрытая пепельная земля наливалась быстрым и непрочным румянцем вечереющего солнца. Мальчику стало грустно оттого, что археологов нет. Кто его знает, зачем он ходил сюда! Может, из-за них и ходил. Они уже не удивлялись ему и поручали ему всякие мелкие работы. Иногда он копал вместе с рабочими, иногда таскал из лагеря воду в легких алюминиевых ведрах, а однажды его допустили в конюшню, и он присутствовал при обработке материала. Археологи как бы его и не замечали. Разговаривали с ним мало, а все же привыкли к нему и уже обращали внимание на его отсутствие.
Они сажали его с собой есть, и это была какая-то радостная еда, гораздо более радостная, чем в детдоме (хотя кормили в детдоме и калорийнее и сытнее).