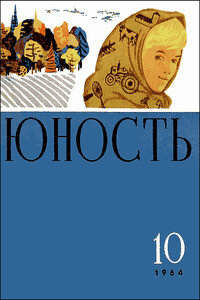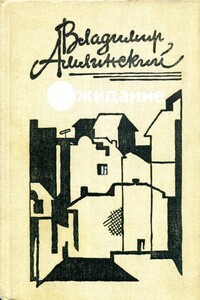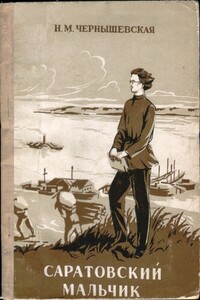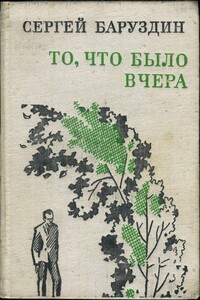Зубастая рожа клонится к земле, глотает ее и бросает в кузов подъехавшего самосвала. Земля рыжая, твердая от камней; она растекается по пустому днищу, камни гулко бухаются с борта.
У самосвала постепенно вырастает горб, крутой, сыпучий, зыбкий. С верблюжьей важностью самосвал степенно отходит. На очереди — следующий.
Ровно в два часа дня Павел выскакивает из кабины экскаватора и спускается к реке.
Он смотрит на блестящую воду, щурится и радостно, освобожденно вздыхает. Затем он снимает сапоги, аккуратно разматывает портянки и накрывает ими сапоги, чтобы не сохли на солнце.
Павел подходит к воде. В зеленоватом зеркале он видит свои раскосые продолговатые глаза и свою улыбку. Павел долго входит в воду, обжигающую тело, отводит ее руками, словно остужает, а потом ложится на спину и тихо, бесшумно плывет.
Над ним течет небо — огромная река; вершины Саян кажутся ее берегами, облака — волнами.
Павлу становится совсем хорошо, он поет. Он поет гортанно, по-своему, по-хакасски. О чем песня? Павел толком и не знает, слов в ней почти нет, одна мелодия… Как будто так: человек идет по степи и находит ручей, вода в ручье холодна.
Павел допел песню — и к берегу. Перерыв кончился.
А в это время к реке подходят геологи. Они шумят, стаскивают с себя цветастые пропотевшие ковбойки, кидают в реку камни. Они работают недалеко от Павла. Что они ищут здесь — это ему неизвестно. Он только слышит шум бурового станка, долбящего породу… У геологов свои дела, у Павла свои.
Из всех геологов Павел знает только Катю. Геологи купаются, а она сидит на берегу. Весь берег в ковбойках и вылинявших полотняных штанах. И одинокая фигурка Кати.
— Что сидишь, что не плывешь? — спрашивает ее Павел.
— Во-первых, простудилась, — говорит Катя. — У меня грипп, понимаешь? А во-вторых, плавать не умею.
Павел с ласковой укоризной качает головой. Такая жара, и простыла. Ай-ай-ай! Лицо у Кати беленькое, загар легкий, а волосы выгорели крепко. Почти седые волосы. Таких светлых волос Павел нигде не видел. Ему хочется чем-то помочь Кате, и он говорит:
— Учить буду плавать. Надо учить. Со мной тонуть не сможешь.
Павел старательно, медленно выговаривает русские слова.
— Я согласна, — отвечает ему Катя и улыбается.
Она-то знает, что он никогда не решится учить ее плаванию. Он смущается ее, как школьник, и она чувствует это.
— Что ж, давай учи… Правда, я простыла… Но клин вышибают клином. Верно ведь?
Павел серьезно смотрит на нее.
— В другой раз. В другой — обязательно. Сейчас машины ждут, задержка будет.
На лице у Кати огорчение:
— Всегда тебя кто-нибудь ждет. То машина, то еще что-нибудь. Ты уж такой.
— Нет, я не такой, — говорит Павел. Он смотрит прямо в Катины веселые светлые глаза, блестящие, точно река Кизир, и задумывается на мгновение. — Конечно, не такой. — И, словно подводя итог всему их короткому разговору, говорит: — Завтра будешь?
— Конечно, как всегда.
Павел кивает ей, отходит и взбирается вверх. Его медная большая спина постепенно сливается с рыжими скалами. И только крепкий уверенный голос его машины сообщает всей тайге о том, что перекур окончен. Словно подчинившись этому кличу, выходят на берег геологи, торопливо одеваются и спешат к своим бурам.
А затем все вместе — и Павел и геологи — наваливаются на тайгу, и хотя они маленькие, а тайга бесконечная, она обмирает от их ударов, дает трещины и стонет…
Вечером Павел, как всегда, заходит в женское общежитие. Как всегда, маленькая Аня ждет его.
— Чай заварю, — обрадованно говорит она.
— Ладно.
— В клуб пойдешь? Ладно?
— Ладно.
Они разговаривают по-русски. Во-первых, неудобно говорить по-хакасски, когда вокруг русские, во-вторых, Павел хочет, чтобы она получше знала русский язык.
Аня заваривает крепкий зеленый хакасский чай, и вместе с ними его пьют Женя — дочка прораба, медсестра, и Лиза из тоннельного отряда. Они пьют из кружек. Кружки щербатые, потемневшие, и у чая кисловатый металлический привкус.
В этих кружках чай теряет запах и цвет. Его полагается пить из пиал. Но ни Павла, ни Аню это не смущает. Они уже привыкли.
Потом они идут в кино. Аня тащит его во второй ряд — она любит сидеть близко. Когда раздается сухой шорох аппарата и из проекционной протягивается к экрану белый луч, в котором, точно микробы в микроскопе, шевелятся пылинки, Аня замирает.
Прежде чем замереть, она берет Павла за руку. И только потом замирает насовсем до конца фильма. Рука у нее маленькая, но шершавая и твердая. От жары рука становится влажной. Павлу чуть не по себе от этой теплой, точно раскаленной, прильнувшей к нему руки, но он ни за что не отодвинет ее.
— Его убьют, — испуганно, по-детски плаксиво говорила Аня. — Одно огорчение.
— Живой будет, — отвечал Павел. Он скучал в кино.
— Правда, живой? — шептала она и искоса поглядывала на Павла.
— Конечно, живой, Ханыс, — устало говорил Павел. Он звал ее по-хакасски — Ханыс.
Лента трещала, рвалась, чертики скакали по полотну, и в задних рядах топали ногами и кричали: «Сапожники!»
После окончания сеанса они гуляли по притихшему поселку, выходили к строящейся насыпи и шли по шпалам. Шпалы были черные от креозота, с застывшими каплями, точно они вспотели от непосильного труда. На полотне сидели парочки. А дальше полотно обрывалось, и у стыка рельсов курчавилась жесткая щуплая трава.