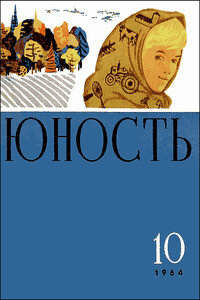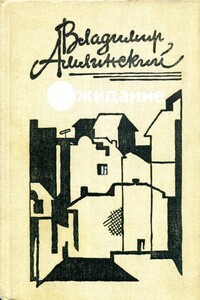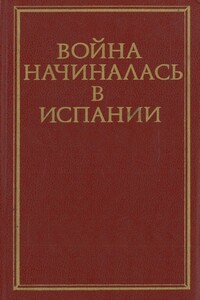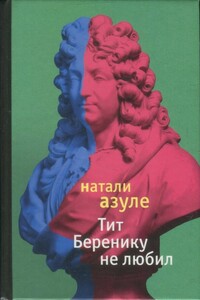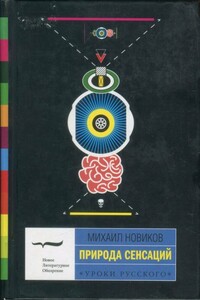Но наступали вдруг глухие паузы. Спады. Все обрывалось на полслове, он уходил, угасал, провода замыкались. Паузы эти были разные. То просто усталость, и тогда он лежал тихо, покойно, с прикрытыми веками, как бы остудив, заморозив на мгновение слово и мысль, перегорающую от переизбытка, от непосильного напряжения. То, вдруг вспомнив о чем-то или ощутив вдруг бездну, о которой я мог лишь догадываться, он замыкался холодно, безучастно, иногда, как мне казалось, враждебно. И почти всегда в эти минуты, после очередного спада, он начинал говорить вяло, тихо, с огромным усилием, глаза его не сразу обретали блеск, живость. Казалось, шла внутренняя борьба, что-то болезненно и сокрушительно сталкивалось в нем, какой-то мускул характера напрягался и сжимал ядрышко раздражения, сжимал и раздавливал, как щипцы орех. Это ядрышко, а может быть, маленькая опухоль не определяла его характер, он умел подавить, загнать это внутрь, а отчего это появлялось порой, было так понятно, так удивительно понятно, понятней даже, чем то многое, что подавляло это.
И были еще другого рода паузы, когда он неразборчиво бормотал что-то, как бы слегка, вполголоса напевая…
Здесь я поначалу пугался. Если первое и второе мне было понятно, то здесь мне чудилась какая-то психическая аномалия. Только потом я понял, что просто он бормотал строчку из стихов или напевал вдруг один ритм какой-то вспомнившейся ему мелодии. И если стихи он произносил почти шепотом, неразборчиво, неясно, то такт мелодии он пел с удивительной музыкальностью и точностью. Так однажды из этой голосовой невнятицы, похожей на шорох настраиваемого приемника, прозвучали несколько тактов из фильма «Восемь с половиной».
Заметив удивление на моем лице, он сказал:
— Фильма я, конечно, не видел, а мелодию передавали однажды по радио, и я запомнил ее. Вообще во всех фильмах Феллини одна и та же мелодия, с некоторыми вариациями. Так вот я ее запомнил и положил на нее слова из стихов. Догадайтесь, из каких?
— Не знаю. Стихов много.
Он откинул голову и, просияв глазами, прочитал:
— «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?» Помните?
— Конечно.
В моих ушах звучал оборванный такт мелодии из фильма. Это была прощальная мелодия. Все кончается. Прощальная цирковая мелодия. Цирк уезжает. Куда? Не известно. В другой город. В какой, еще не знаем сами. До свидания. До свидания с кем? С вами, со зрителями, но не только с вами. И с собой тоже, с представлением, которое отжило свое и устарело, с городом, где мы были, с нашим мнимым волшебством, с минутным обманом, с блеском, с игрой в счастье, в праздник, в парад-алле, в абсолютную гармонию жизни. Но это только одна тема… А что же еще? А еще прощание с юностью, с дебютом, с восторгом удачи, прощание с верой в фокус, в счастливую звезду, в победу. Да, прощание, но все равно знаем и верим — ничто не кончилось, знаем и верим — будет, верим во все: и в успех, и в музыку нашу, даже в серебро и золото на картоне, даже в папье-маше и в трюк… И еще во что? Да… еще в мгновение, которое — остановись! Ты прекрасно! В ту женщину, с которой сегодня последний вечер и, по правде, уже никогда, уже все, жизнь развела, но знаем и верим — встретимся и все начнется опять. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»
Вот такой был смысл этой мелодии, так она для меня звучала. И все это имело свой фон, почти необъяснимый, фон черного неба, южных звезд, теней, тревоги и обещания. А какой фон виделся ему? Что в нем пробуждала эта музыка горестно-торжественной кавалькады, мотив юности, внезапно нахлынувшей, но уже нереальной?
— А ты думаешь, мне нечего вспомнить? Конечно, меньше, чем другим, но зато все памятнее и острее. Я ведь не всегда такой был. Я мог ходить, сидеть, бегать, прыгать, играть в футбол. Я все мог, я был как все… Только я это не ценил, да как ценить — это было ведь нормально! Человек же не может ценить, что он дышит. Вот когда он заболеет астмой, он поймет, что это за божий дар дышать, тогда он и начнет вспоминать, как ему чисто, легко дышалось. Так вот, я был как все. Кончилась война. Мне было двенадцать лет… Ах, как было скудно и как хорошо! Как нам завтраки в школе выдавали бесплатно, два пирожка с картошкой и кисель. У кого отцы погибли — тем пальто бесплатные, темные такие, в клетку. После урока гоняем в футбол консервной банкой или тряпичным мячиком, девочек видим только издали. Раздельное обучение. Собственно, даже не видим, зачем нам их видеть, мы их и не замечаем. Зачем нам девочки, я их замечать стал только в пятнадцать, в Крыму, когда я уже был на костылях. Поздно я, понимаешь, их заметил… Я ведь не знал, что всю мою остальную жизнь я буду воспринимать только два вида женщин: тележенщин и женщин-врачей. В тележенщин я влюбляюсь иногда, а потом меняю свое увлечение: сегодня дикторша из первой программы, потом какая-нибудь из передачи «Для дома, для семьи» или театральная обозревательница… В общем, ты понимаешь, я ветреный мужчина. Ну, а с женщинами-врачами мы слишком давно знакомы, чтобы как-нибудь воспринимать друг друга… Но сейчас я не об этом. Все у меня, значит, было хорошо. Семья была редкая, не разорвана ни войной, ни разладом. Родители мои метростроевцы. Нас двое: я и брат Мишка.