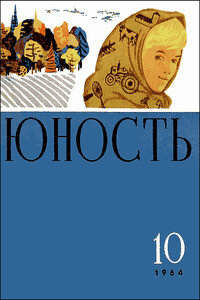Музыка на вокзале - [11]
Когда я пробился сквозь университетский конкурс, многие удивлялись. Смотри какой упрямый! А зачем ему это? Но я-то знал зачем. Я занимался изо всех сил…
Учителя, приезжавшие ко мне принимать зачеты, удивлялись, глядя на меня, бледнели и тут же хватались за ручки, чтобы, не спрашивая, поставить зачет. Не все, конечно, но были и такие… Одному я сказал: «Не надо так, из милосердия. Вы меня спросите сначала, я ведь кое-что знаю. Я же тут месяцами сидел над этим. Так зачем же мне теперь одалживаться?»
И он спрашивал. Я отвечал. Потом он говорил всякие слова, и извинялся, и объяснял мне, какой я сильный человек. А «сильный человек» в пятьдесят пятом году снова загремел в ортопедический госпиталь. Там был профессор Каплин. Он мне говорил: «Тебя рано загипсовали, заложили в колодки, лишили движения. Мускулы твои от всего этого за годы стали ватными… И все-таки заставляй себя, лежа, напрягать мускулы ног, будь немножко йогом, Эрик».
И я стал йогом. Утром, вечером напрягаю свои ватные бицепсы… Лежу и напрягаю. И кажется мне, что если делать так год, два, три, я встану и пойду легкой, пружинистой походкой студента, сбежавшего с лекции. В госпитале я познакомился с танцовщиком Большого театра Володей Мешковским, еще с одним парнем Колей — ноги у него были повреждены еще в войну. На нас троих словно бес нашел. Мы читали стихи, орали до хрипоты, спорили, прыгали или пытались прыгать на кроватях, нарушали дисциплину. С этими парнями мне было весело. Коля и сейчас бывает у меня. Его представили к награде за войну… В сумятице войны о нем забыли, обошли, а сейчас вспомнили и наградили. А Володька, который был самый счастливый и общительный человек в госпитале, великий нарушитель, умер. В мемориальный список моих друзей по санаториям и госпиталям, из которых мало кто добрался до тридцати, я вписал еще одного.
Когда я вернулся из госпиталя, мы переехали в новую квартиру. Вот сюда, около МПС, где работает мать. Кончилась наша мышиная война. И в том же году я засел за курсовую работу «Иностранная лексика в «Евгении Онегине»… Писал я кое-что и для себя, не знаю, как это назвать — рецензии, впечатления, или, как сейчас это модно, эссе… Я еще тогда ковылял немножко и все торчал у окна, особенно весной и летом, изучил весь двор и дома рядом и всех ребят уже знал в лицо, а девчонок и вовсе узнавал по походке. В нашем дворе хорошие были девчонки, как, верно, и в других дворах; и весной, когда земля просыхала, асфальт становился серый, зернистый, они цокали, как лошадки, своими каблучками, а я стоял, слушал. Костыли были под рукой, мускулы ватные, голова вялая, расслабленная по-весеннему, и если я и стоял, то на чем-то очень вязком, как непросохший гипс.
И нету точки опоры.
Теперь я понимаю иногда людей, внезапно пришедших к религии. Это договор с самим собой, особый вид душевного компромисса, приказ самому себе: ослепнуть, не видеть правды, не думать о ней, искать выход не в своих силах и возможностях, а в возможностях кого-то, видящего тебя, который один понимает твое горе и дарит тебе за это нечто. А какое это «нечто», никто не знает. Высшая радость, гармония, а скорее всего, просто анестезия. Нужна точка опоры, воплощенная в ком-то конкретно, в большем, чем ты и твое страдание. И к этому добавляется эмоциональная сторона, ты ощущаешь себя растворенным в музыке, в бестелесности, в той среде, куда не доходят мелкие житейские обиды и несправедливость, где твое одиночество особого рода — оно не убого по-человечески, не жалко. Ты не просто один в своих четырех стенах, наедине с родственниками, от которых ты устал и которые устали от тебя; нет, тут одиночество другое — ты наедине с Собеседником, постоянным, удивительно чутким и все понимающим, тем более все понимающим, что он и есть твое придуманное и отраженное «я».
У нас почти всегда исследуют религию как данность, как систему мировоззрения, общественно-социальный институт. Но мало подчас исследуют конкретное состояние, приведшее человека к богу. И то, что есть этот бог для него, кого он видит в этом боге, кого он сам себе придумал, но для легкости приобщил к общему, узаконенному богу на иконе.
Но я ведь материалист, и силы реакции во мне самом не могли одолеть сил прогресса. Мне надо было найти точку опоры в чем-то ином, и я представлял себе, в чем она, но не умел ее сформулировать. Я точно знал, что она во мне самом, в каких-то таких моих возможностях, которые больше моих невозможностей, которые сильнее моей немощи, которые могут подняться даже над тем, без чего, в общем-то, скудна и обделена человеческая жизнь, как город без деревьев. Над тем, что стучат каблуки по асфальту и девчонка с моего двора идет на свидание к кому-то. Идет, и не надо ей понимать, какая подспудная сила в каждом ее движении, в улыбке ее, какой мир в ней заключен, независимо от нее самой, хорошая она или плохая, и как трагичен для меня торопливый стук этих каблуков.
И я ухожу от нее в свое плавание.
Я плыву по своим морям, тону в своих глубинах, оседаю на своих мелях. Чего я ищу? Клада на дне. Зачем это все?
Поскрипывая перышком, иногда записываю свои доморощенные мысли, включаю радио, слушаю музыку, думаю и достаю с полки толстую запыленную книгу. И вот что я там читаю: «Поэтому возвращаясь к предыдущему, достоверно, что когда душе представляется нечто другое великолепнее тела, то тело не в силах вызывать такие действия, какие оно вызывает теперь. Отсюда следует не только то, что тело не есть важнейшая причина страстей…» Спиноза…

Биографическая повесть известного писателя и сценариста Владимира Амлинского об отце, ученом-генетике И.Е. Амлинском.
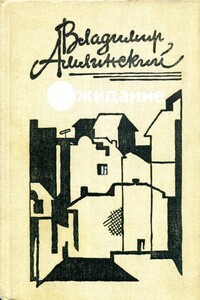
В книгу «Ожидание» вошли наиболее известные произведения В. Амлинского, посвященные нашим современникам — их жизни со сложными проблемами любви, товарищества, отношения к труду и ответственностью перед обществом.

Этот рассказ - обычная бытовая сценка из жизни конца 50-х - начала 60-х прошлого века. Читатель может почувствовать попаданцем во времена, когда не было интернета и когда люди мечтали прочесть имеющиеся в наличии газеты, начиная от самой скучной - и до "Комсомолки". :) .

В романе передаётся «магия» родного писателю Прекмурья с его прекрасной и могучей природой, древними преданиями и силами, не доступными пониманию современного человека, мучающегося от собственной неудовлетворенности и отсутствия прочных ориентиров.
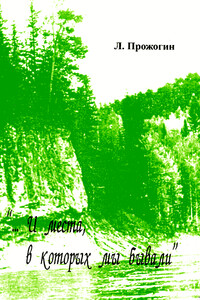
Книга воспоминаний геолога Л. Г. Прожогина рассказывает о полной романтики и приключений работе геологов-поисковиков в сибирской тайге.

Впервые на русском – последний роман всемирно знаменитого «исследователя психологии души, певца человеческого отчуждения» («Вечерняя Москва»), «высшее достижение всей жизни и творчества японского мастера» («Бостон глоуб»). Однажды утром рассказчик обнаруживает, что его ноги покрылись ростками дайкона (японский белый редис). Доктор посылает его лечиться на курорт Долина ада, славящийся горячими серными источниками, и наш герой отправляется в путь на самобеглой больничной койке, словно выкатившейся с конверта пинк-флойдовского альбома «A Momentary Lapse of Reason»…
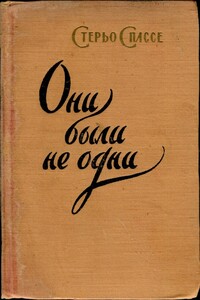
Без аннотации.В романе «Они были не одни» разоблачается антинародная политика помещиков в 30-е гг., показано пробуждение революционного сознания албанского крестьянства под влиянием коммунистической партии. В этом произведении заметно влияние Л. Н. Толстого, М. Горького.

Немецкий офицер, хладнокровный дознаватель Гестапо, манипулирующий людьми и умело дрессирующий овчарок, к моменту поражения Германии в войне решает скрыться от преследования под чужим именем и под чужой историей. Чтобы ничем себя не выдать, загоняет свой прежний опыт в самые дальние уголки памяти. И когда его душа после смерти была подвергнута переформатированию наподобие жёсткого диска – для повторного использования, – уцелевшая память досталась новому эмбриону.Эта душа, полная нечеловеческого знания о мире и людях, оказывается в заточении – сперва в утробе новой матери, потом в теле беспомощного младенца, и так до двенадцатилетнего возраста, когда Ионас (тот самый библейский Иона из чрева кита) убегает со своей овчаркой из родительского дома на поиск той стёртой послевоенной истории, той тайной биографии простого Андерсена, который оказался далеко не прост.Шарль Левински (род.

«Отныне Гернси увековечен в монументальном портрете, который, безусловно, станет классическим памятником острова». Слова эти принадлежат известному английскому прозаику Джону Фаулсу и взяты из его предисловия к книге Д. Эдвардса «Эбинизер Лe Паж», первому и единственному роману, написанному гернсийцем об острове Гернси. Среди всех островов, расположенных в проливе Ла-Манш, Гернси — второй по величине. Книга о Гернси была издана в 1981 году, спустя пять лет после смерти её автора Джералда Эдвардса, который родился и вырос на острове.Годы детства и юности послужили для Д.