Музей заброшенных секретов - [2]
— Воробышек мой… Моя школьница…
— Почему — школьница?
— У тебя тело на ощупь, как у школьницы. Это фантастика.
— Что именно?
— Что оно так сохранилось.
— Вот хамло.
— Да, хамло, — охотно соглашаешься ты, переворачивая меня на спину, способность твоих рук добывать из моего тела такие разные по высоте и цветовой насыщенности, только мне слышные музыкальные тона (немного похоже на минималистов, на Филиппа Гласа, но Глас на этом фоне пацан, ему такая палитра и не приснилась бы…) в очередной раз заставляет меня перейти в другой режим слушания: закрыв глаза, целиком сосредоточившись на вспыхивающих на внутренней стороне век картинках, как на симфоническом концерте, — сначала замедленно, словно под водой, приходят в движение бледные поросли побегов, очерченных с плавным изяществом японской графики, затем — на мгновенье выныривая на поверхность — тропически-густая, изумрудная зелень, которая все темнеет и темнеет, стягиваясь и затвердевая в болевой точке соска, и аккурат в ту минуту, когда я вот-вот вскрикну, потому что ты и правда уже делаешь мне больно, давление исчезает, перетекая в повсеместный разлив нежности, и над горизонтом победно выныривает круглое, раскаленно-оранжевое солнце! — от восторга я смеюсь вслух, вся уже — как живой керамический кувшин, музыкальная скульптура в руках мастера, после увертюры еще не аплодируют, говоришь ты откуда-то из темноты, будто уже изнутри меня, твои руки продолжают двигаться с немилосердной точностью, даст же Бог такой дар, и умирать я начинаю, как обычно, — как ты это делаешь? — еще заранее, еще до того, как ты войдешь и целиком заполнишь меня собой, к тому времени от меня только и остается насквозь прогретая нежным светом благодарности, текучая и подвижная форма, в которую ты вкладываешься весь, до последнего, с отчаянной силой уже аж неживой природы, всепобеждающих огня-и-тверди, ах ты ж, ты, ты, ты — мой единственный, мой безымянный (в эти минуты у тебя нет имени — как не бывает у всех бесконечных величин…), — первый вселенский взрыв, вспышка новорожденных планет, затмение, вскрик — конечно, это счастье, конечно, нам с тобой безумно, нечеловечески повезло, даже страх берет, за какие же это такие заслуги и какую еще за это запросят пошлину, ведь подумай только, бормочу я в блаженной отяжелелости, все еще утопившись, как щенок, носом, в не остывшую от пота, с пряновато-родным запахом (корица? тмин?) мужскую шею: миллионы людей жили на свете и никогда не испытывали ничего подобного (хотя, собственно, откуда нам знать? но почему-то счастливые влюбленные всегда заряжены этой непоколебимой уверенностью, что они первые такие на свете со времен его сотворения…), — и поэтому, разумеется, нет уже никаких оснований (а если и были какие-то, то смыло океаническим валом) — никаких, конечно же, оснований отматывать пленку назад и заново рефлексировать над той «школьницей»: над тем, что в тебе, разве уже последней дурынде не видно было бы, и дальше продолжается эта по-мозольному, по-шахтерски упрямая работа — подклеить, подшить меня, во всей совокупности ощущений, с осязательной памятью включительно, напрямую к своей первой любви. (С нарочитым цинизмом спросить в эту минуту что-то типа: а ты что, спец по школьницам? нимфетоман? откуда такие сравнения? — значило бы вмешаться в эти подземные работы памяти так же неосторожно, как окликнуть лунатика, движущегося по краешку крыши, и с таким же риском, что разбуженный упадет и разобьется, — нет уж, пусть идет как идет, не мне соваться к кому-то в сознание с гаечным ключом…)
Собственно говоря, мне это должно бы польстить, так? Или хоть успокоить: какие еще более надежные гарантии любви-до-гроба может дать женщине мужчина, если не подсоединить ее (термин из электротехники, всех нас к чему-либо да подсоединяют, но и мы в долгу не остаемся, тоже по живому спаиваем клеммы, наматываем всякие изоляционные обмотки, пока — бац! — не рванет коротким замыканием…) к тем самым первым женским образам, забетонированным в памяти, — образам матери, сестры, девочки за соседней партой?.. Уважаемые дамы и дорогие подруги, будем любить своих свекрух: это наше прямое будущее, те женщины, какими мы станем лет через тридцать (а иначе любимый нас бы просто — не разглядел, не узнал). Будем любить своих соперниц, давних и нынешних: каждая из них несет в себе нечто от нас, то, чего мы за собой зачастую и не замечаем, и не ценим, а для него оно как раз и оказывается главным… О черт, неужели у меня может быть что-то общее с той насупленной бабой с угольными глазницами?
А ведь это только начало, о Господи. Только начало.
Аполлинария, Стефания, Амброзий, Володимира (а какие забавные эти шляпки двадцатых годов уже прошлого века, такие облегающие, насаженные котелком по самые брови, повязанные шелковыми лентами, — шелк узнается по блеску, на снимках он не тускнеет, узкие поля, аккуратные головки, и на ногах, даже летом, обязательно чулки, это как же они, бедняжечки, упревали, подумать страшно!..) — перебирать снимки, это все равно, что молча здороваться со всеми, с каждым, кто изображен на них, глазами, — и неважно, что все они мертвы. То есть тем хуже для меня.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

В книгу включены сказки, рассказывающие о перипетиях, с которыми сталкиваются сотрудники офисов, образовавшие в последнее время мощную социальную прослойку. Это особый тип людей, можно сказать, новый этнос, у которого есть свои легенды, свои предания, свой язык, свои обычаи и свой культурный уклад. Автор подвергает их серьезнейшим испытаниям, насылая на них инфернальные силы, с которыми им приходится бороться с переменным успехом. Сказки написаны в стилистике черного юмора.
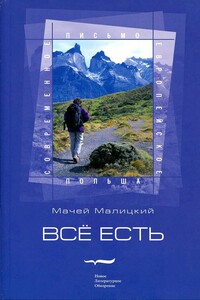
Мачей Малицкий вводит читателя в мир, где есть всё: море, река и горы; железнодорожные пути и мосты; собаки и кошки; славные, добрые, чудаковатые люди. А еще там есть жизнь и смерть, радости и горе, начало и конец — и всё, вплоть до мелочей, в равной степени важно. Об этом мире автор (он же — главный герой) рассказывает особым языком — он скуп на слова, но каждое слово не просто уместно, а единственно возможно в данном контексте и оттого необычайно выразительно. Недаром оно подслушано чутким наблюдателем жизни, потом отделено от ненужной шелухи и соединено с другими, столь же тщательно отобранными.

«Сигнальные пути» рассказывают о молекулах и о людях. О путях, которые мы выбираем, и развилках, которые проскакиваем, не замечая. Как бывшие друзья, родные, возлюбленные в 2014 году вдруг оказались врагами? Ответ Марии Кондратовой не претендует на полноту и всеохватность, это частный взгляд на донбасские события последних лет, опыт человека, который осознал, что мог оказаться на любой стороне в этой войне и на любой стороне чувствовал бы, что прав.
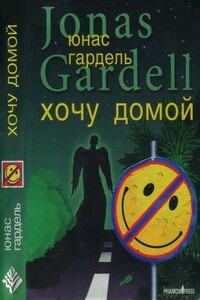
Юха живет на окраине Стокгольма, в обычной семье, где родители любят хлопать дверями, а иногда и орать друг на друга. Юха — обычный мальчик, от других он отличается только тем, что отчаянно любит смешить. Он корчит рожи и рассказывает анекдоты, врет и отпускает сальные шутки. Юха — комедиант от природы, но никто этого не ценит, до поры до времени. Еще одно отличие Юхи от прочих детей: его преследует ангел. У ангела горящие глаза, острые клыки и длинные когти. Возможно, это и не ангел вовсе? «Детство комика» — смешной, печальный и мудрый рассказ о времени, когда познаешь первое предательство, обиду и первую не-любовь. «Хочу домой» — рассказ о совсем другой поре жизни.
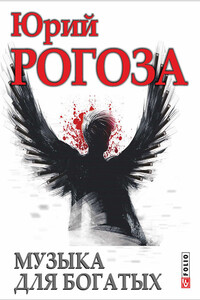
У автора этого романа много почетных званий, лауреатских статуэток, дипломов, орденов и просто успехов: литературных, телевизионных, кинематографических, песенных – разных. Лишь их перечисление заняло бы целую страницу. И даже больше – если задействовать правды и вымыслы Yandex и Google. Но когда вы держите в руках свежеизданную книгу, все прошлые заслуги – не в счет. Она – ваша. Прочтите ее не отрываясь. Отбросьте, едва начав, если будет скучно. Вам и только вам решать, насколько хороша «Музыка для богатых» и насколько вам близок и интересен ее автор – Юрий Рогоза.