Муравечество - [30]
Я смотрю на Инго, но он, кажется, отвлекся. Он пересчитывает таблетки. (Его таблетница размером с настенный календарь, в то же время она и есть календарь. Висит на стене.) Он вообще меня слушал? Я вспоминаю своих неблагодарных студентов в школе смотрителей зоопарков. Не то чтобы во время моих лекций они пересчитывали таблетки (ведь они молоды и крепки), но они переписываются и читают всякие сплетни в своих компьютерах, часто выходят из аудитории и часто вообще не появляются. Я не приверженец строгой дисциплины. Отнюдь нет. Я верю в то, что, когда ученик не пишет СМС, приходит учитель — вернее, оказывается, что он все это время стоял у доски. Я не Сидни Пуатье из «Учителю, с любовью». Как и не Сэнди Деннис из «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Я не в расцвете, как мисс Джин Броди из «Расцвета мисс Джин Броди». И я не мистер Чип или кто там еще из тех семи фильмов, где Робин Уильямс играл вдохновляющих учителей («Учитель, мне нужна помощь!», «Учитель года II», «Слишком заботливый учитель», «Профессор Сальвадор Сапперштейн и несчастные студенты школы Солсбери», «Учитель, мне опять нужна помощь!», «Я твой учитель, и я тебя люблю» и «Общество мертвых поэтов»). Я кладезь мудрости, если угодно. Я источник. Я здесь, если я нужен. А пока буду учить так, словно никто не слушает. Буду писать так, словно никто не читает. Буду любить так, словно весь мир вымер.
Инго закончил перебирать таблетки. Смотрит на меня.
— О, привет. Так что, хочешь посмотреть мой фильм целиком?
— Да, да, тысячу раз да! Ну, то есть семь. Только семь. Почему именно семь, я уже объяснил выше, ну и еще фильм очень длинный.
— Значит, вот как мы сделаем, — говорит он. — Фильм идет три месяца, включая заранее определенные перерывы на походы в туалет, еду и сон. Идея в том, чтобы благодаря напору фильм проник в твое сознание и населил твои сны. Это своего рода киноэксперимент, устанавливающий между художником и зрителем равные отношения, благодаря чему зритель, посмотрев фильм целиком, утратит понимание того, где кончается реальность фильма и начинаются его собственные сны. Или ее.
— Или тона.
— Безусловно, у меня есть намерение подтолкнуть твои сны в определенном направлении, но в итоге то, что ты сам привнесешь в фильм, во многом будет зависеть от твоего сознания.
— Типа как брейнио.
— Что?
— Типа как брейнио, — повторяю я.
— Первый перерыв на туалет будет через пять часов, — говорит он, не обращая на меня внимания. — Пользуйся своим. Мой закрыт для всех, кроме меня, и только я могу им пользоваться и обязательно воспользуюсь.
— Вы снова говорите очень похоже на меня.
— В свой туалет я тебя все равно не пущу, мистер.
— Справедливо. Но это правда. Или как Окки. Это жутковато звучит.
— Я не знаю, что такое «окки». Ты готов начать?
— Позвольте мне подготовиться, — говорю я.
— Ладно. Готовься.
— Ладно, я пытаюсь.
— Ладно.
Сделав быстрый вдох, активирую режим «безымянной обезьяны» — а после того, как я много лет изучал и практиковал некоторые околовосточные религии, это получается мгновенно.
— Поехали, — фырчу я по-обезьяньи.
Следующие семнадцать дней проходят в размытом, но гениальном лихорадочном сне, наполненном невообразимым кинематографическим величием, раменом, пропущенными звонками от афроамериканской девушки, «Настоящим тунцом Нилона», тревожными снами, перерывами на туалет, короткими и запутанными разговорами с Инго о растительном клее. Я плачу. Я смеюсь. Я ною. Я вздыхаю. Я потею. Я в радостном порыве бью кулаком по воздуху. Меня переносит в страну чуждых мне эмоций, в страну, которой я, возможно, избегал всю жизнь. Здесь есть всё.
На семнадцатый день, где-то между 15:05 и 15:08, Инго умирает. Когда фильм прерывается и никто не меняет бобину, я оборачиваюсь и вижу, как он повис на костылях, все еще стоя. Я оказываю первую помощь, хоть и не знаю, как ее обычно оказывают, но знаю, что надо давить и, кажется, давить надо на грудь. Не помогает. Я смотрю в его невидящие остекленевшие афроамериканские глаза и плачу.
Разбитый горем, я вспоминаю наш с Инго ночной разговор несколько дней назад, когда он подтыкал мне одеяло перед сном, — этот разговор возникает в голове, словно призрак.
— В мире есть множество незримых, — сказал он.
— Незримых?
— Тех, кого не узрели.
— И зря. Понимаю, — сказал я.
— В фильме.
— Они есть в фильме?
— В фильме они незримы.
— Значит, их нет в фильме?
— Они есть. Но их нет в кадре. Так и со многими из нас.
— Значит, это все же более-менее концептуальное замечание.
— Нет. Были еще куклы. Созданные с тем же тщанием, что и зримые. И их я тоже двигал, шаг за шагом, так же как и зримых. Они жили свои жизни. Но их не видела камера. Только я.
— Вы анимировали кукол, но не сняли их на пленку.
— Это вшестеро увеличило фронт работ. Иначе я закончил бы фильм за пятнадцать лет. Это необходимая жертва.
— Но почему?
— Потому что Незримые тоже живут. Потому что если я не увижу, как они живут, то кто тогда увидит?
— Но почему бы не заснять их и не сделать зримыми для мира?
— Потому что они незримы. А если бы кто-то узрел Незримых, они бы уже не были незримы.
— Может, вы делали хотя бы какие-то заметки на бумаге? Их имена? Имена их любимых? Их семьи?

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

После восемнадцати лет отсутствия Джек Тернер возвращается домой, чтобы открыть свою юридическую фирму. Теперь он успешный адвокат по уголовным делам, но все также чувствует себя потерянным. Который год Джека преследует ощущение, что он что-то упускает в жизни. Будь это оставшиеся без ответа вопросы о его брате или многообещающий роман с Дженни Уолтон. Джек опасается сближаться с кем-либо, кроме нескольких надежных друзей и своих любимых собак. Но когда ему поручают защиту семнадцатилетней девушки, обвиняемой в продаже наркотиков, и его врага детства в деле о вооруженном ограблении, Джек вынужден переоценить свое прошлое и задуматься о собственных ошибках в общении с другими.
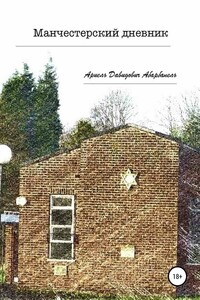
Повествование ведёт некий Леви — уроженец г. Ленинграда, проживающий в еврейском гетто Антверпена. У шамеша синагоги «Ван ден Нест» Леви спрашивает о возможности остановиться на «пару дней» у семьи его новоявленного зятя, чтобы поближе познакомиться с жизнью английских евреев. Гуляя по улицам Манчестера «еврейского» и Манчестера «светского», в его памяти и воображении всплывают воспоминания, связанные с Ленинским районом города Ленинграда, на одной из улиц которого в квартирах домов скрывается отдельный, особенный роман, зачастую переполненный болью и безнадёжностью.

Что скрывается за той маской, что носит каждый из нас? «Воображаемые жизни Джеймса Понеке» – роман новозеландской писательницы Тины Макерети, глубокий, красочный и захватывающий. Джеймс Понеке – юный сирота-маори. Всю свою жизнь он мечтал путешествовать, и, когда английский художник, по долгу службы оказавшийся в Новой Зеландии, приглашает его в Лондон, Джеймс спешит принять предложение. Теперь он – часть шоу, живой экспонат. Проводит свои дни, наряженный в национальную одежду, и каждый за плату может поглазеть на него.

Село Белогорье. Храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Воскресная литургия. Молитвенный дух объединяет всех людей. Среди молящихся есть молодой парень в инвалидной коляске, это Максим. Максим большой молодец, ему все дается с трудом: преодолевать дорогу, писать письма, разговаривать, что-то держать руками, даже принимать пищу. Но он не унывает, старается справляться со всеми трудностями. У Максима нет памяти, поэтому он часто пользуется словами других людей, но это не беда. Самое главное – он хочет стать нужным другим, поделиться своими мыслями, мечтами и фантазиями.

Скорее рассказ, чем книга. Разрушенные представления, юношеский максимализм и размышления, размышления, размышления… Нет, здесь нет большой трагедии, здесь просто мир, с виду спокойный, но так бурно переживаемый.